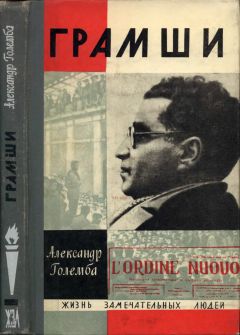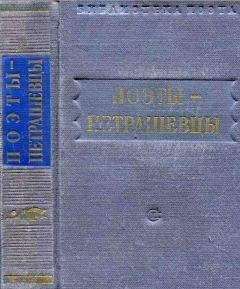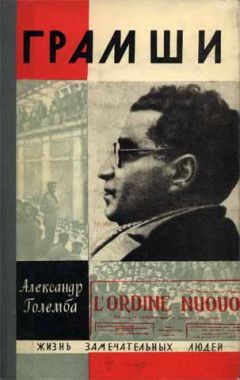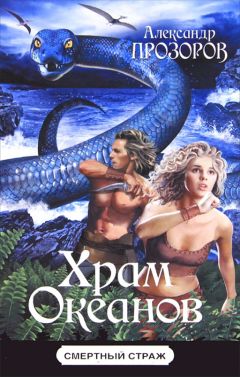Александр Големба - Я человек эпохи Миннезанга: Стихотворения
ГЛУПЫЙ СТРАННИК
Глупый странник! Милое коварство
ты постичь сумеешь не весьма:
видишь это каменное царство,
окна, стены, лестницы, дома?
Мир в непостижимом обаяньи,
день – его слезами ороси! –
киоскеры, дети, скверы, няни
и шоферы плохоньких такси.
Это околесица сквозная,
летопись разбуженной воды.
Булочная. Бронная. Мясная.
Это Патриаршие Пруды.
Это твой участок заповедный
под шатром апрельской синевы
в самом центре старой и оседлой,
гуталином пахнущей Москвы.
ЧУЖБИНА
На площади странно пустой,
подобно ковчегу завета,
последний посмертный постой
героев варшавского гетто.
И сердце не ищет ответа,
одето слепой пустотой,
в своей беготне холостой
живою душой не согрето.
Здесь мог бы, купаясь в крови,
колоться угрюмый шиповник.
Здесь пал Анхилевич. Полковник.
Так имя его назови.
Здесь мог бы железный терновник
язвить по закону любви.
«Ладонь тепла, ладонь шершава…»
Ладонь тепла, ладонь шершава,
ладонь пуста, погас огонь.
Ах, как прощается Варшава
с твоей душой! Не пустозвонь:
ладонь тепла, ладонь шершава,
а это – нищенская сонь!
И эта скука у подножья
Адамов – в звоне медных лат, –
и этот дивный Новый Свят,
где по дешевке Имя Божье!
И где какой-то дуралей
в своей коляске инвалидной,
безмозглый, жалкий и обидный,
мусолит хлипкую свирель.
Нет, не свирель – я вспоминаю, –
губастых шин солидный хруст, —
гармошка бедная губная
у этих губ, у этих уст.
Она – метафорой заботы –
с автобусами заодно гудит,
как нищенские соты,
в которых меда нет давно!
«Город, переполненный вещами…»
Город, переполненный вещами,
ничего не обещает мне,
это просто радиовещанье
на давно потерянной волне!
Милый друг, не думай об утрате,
заключи в душевный свой музей
голоса невидимых собратий,
голоса утраченных друзей.
Всё, что перед нами, – это город,
окнами унизанная мгла,
окнами веселыми, в которых
нет для нас ни света, ни тепла.
А ведь мы давно уж не скитальцы,
и не весь еще растерян пыл,
и нетрудно сосчитать по пальцам
всех, кто нас лелеял и любил.
Или думой о насущном хлебе
жизнь моя совсем омрачена?
Серый алюминиевый лебедь
смотрит с магазинного окна.
Упоительно прекрасных линий
этот водоплавающий зверь!
Я пройду сквозь темный алюминий,
вторгнусь в сердцевину всех потерь, –
я прислушаюсь к биенью сердца,
к жизни, до конца не прожитой,
и ко всей неволе богомерзкой.
Только лебедь – он внутри пустой.
ГОРОД ПЛОСКИХ КРЫШ
Скажи, о чем ты говоришь,
моя душа, моя тревога?
Ты вброшена по воле Бога
вот в этот город плоских крыш!
Париж? Пожалуй, не Париж!
Париж, пожалуй, слишком много:
ужель над скукой демагога
сентиментально воспаришь?
Есть ужас пьесы. Грусть пролога.
Ополоумевший матчиш.
И есть закланье эпилога
в чертополохе плоских крыш.
И есть заклятье эпилога
в коловращенье плоских крыш!
«Вот где рождались чеканные строфы…»
Вот где рождались чеканные строфы,
вот где пылали сухие сердца!
Море холодное у Петергофа,
Камень. Пустая коробка дворца.
В северной, в бледной, в студеной истоме
низкое небо над скатами крыш.
Желтые сосны соседней Суоми.
Финское небо и финская тишь.
Рек полунощных зальдевшие устья,
чуть поседевших газонов покой…
Нету столичней сего захолустья,
нет захолустней столицы такой!
«Жизнь и время идут на таран…»
Жизнь и время идут на таран,
убивается утлая память.
Что за ними? Театр – ресторан –
семимильная зимняя заметь.
Этой замети нет в словарях.
Говорят, это выдумка просто.
Только грусть исполинского роста
всё шипит в дуговых фонарях…
«Если б я мог сказать, как гитарной струной…»
Если б я мог сказать, как гитарной струной
этот сумрачный город звенит, –
этот город, увы, никому не родной,
отошел бы в беззвездный зенит!
Подо мною шумит золотая река,
но не виден мне волн ее цвет, –
надо мной золотые летят облака,
облака несвершенных побед.
Я гранитам не мог бы ни слова сказать,
я б к сырому асфальту приник,
чтоб проникла сквозь время в меня благодать,
чтоб пробился сквозь камни родник!
Если мысль хороша, если совести нет,
если есть только счастья изменчивый свет,
только боль и тоска, только нега и грусть,
только в прежнюю жизнь я уже не вернусь.
Пусть наполнит мне душу святая тоска
бесконечных твоих мостовых,
пусть прильнет к тишине спускового крючка
весь асфальт тротуаров твоих, –
пусть окажется вскоре, что времени нет,
что на свете есть только беда,
что дорога людей и дорога комет
убегает, как встарь, никуда!
Снова вижу волну и мосты над волной,
снова вижу я город родной,
снова вижу я горе и темную тишь,
отчего же ты, сердце, не спишь?
«Этот город большой…»
Этот город большой
над рекой, в серебро и граниты окованной,
этот город большой
с горделивой душой,
этот город с печалью рискованной, –
этот воздух немой,
на заре зеленеющий,
этот ветер, сумой
и изгнанием веющий, –
тяжело
в этом каменном темном гробу
дожидаться
в свинцовом тумане,
в забытьи и в обмане,
скоро ль грянет архангел в трубу?!
Этот ласковый город
смертей и могил, –
где ты, где ты, крылатый летун Азраил,
где ты, где ты, посланец крылатый?
Что ты медлишь,
небесный оратай?
Не пора ль,
не пора ль
на орала мечи
в перековку пустить,
или, может быть, рано?
Эта ночь тяжела,
как рубцы ветерана,
так молчи,
ошалелое сердце,
молчи!
«Ах, туман, туман, туман…»
Ах, туман, туман, туман,
в старом городе туман,
и троллейбусы во сне,
будто рыбины на дне, –
и огней, огней не счесть,
это всё в тумане есть,
но размыты все они,
эти самые огни.
Ах, туман, туман, туман,
разойтись бы по домам, –
но сквозь горе и беду
я веду тебя, веду…
БЕЛАЯ ТЬМА
Есть на свете путешествия
неподвижности немой,
поединки сумасшествия
с непроглядной снежной тьмой.
Как потом из теплой комнаты,
из затишья духоты
выйти в те слепые омуты,
где плутали я да ты?
Фонари над белой заметью,
над киосками – судьба.
Прямо в небо вбилась замертво
черномазая труба.
По ее скобам-приступочкам
в небо трепетное лезь, –
хрупким ангельским халупочкам
открывайся с маху весь!
До последнего пришествия
снегом физию умой
в час ночного сумасшествия –
поединка с белой тьмой.
«Душа моя, пока ты спишь…»
Душа моя, пока ты спишь,
устав от пней и кочек,
в прихожей вьется, как дервиш,
глухой электросчетчик.
Ты спишь. Видений череда,
как на киноэкране.
Чуть слышно булькает вода
на кухне в медном кране.
Чуть слышно булькает вода
на кухне в медном кране.
Ток наполняет провода.
Мы знаем всё заране.
Пока мы спим, нам снятся сны
особого покроя,
томленья льдистой крутизны,
беспамятство героя.
Сочится стужа на авось
сквозь щели и зазоры,
и лунный свет сочится сквозь
морозные узоры.
И месяц за окном моим
колеблется сурово,
как шестикрылый серафим
на перепутьях слова.
«Я вижу город под дождем…»