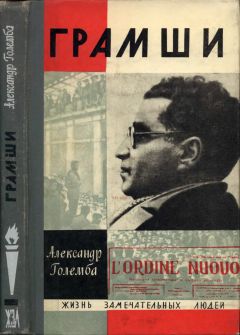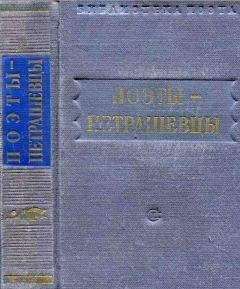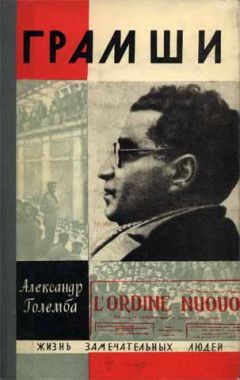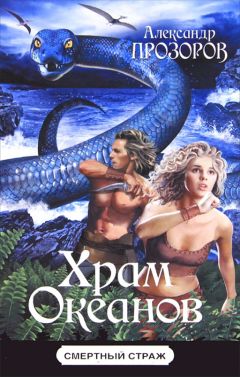Александр Големба - Я человек эпохи Миннезанга: Стихотворения
«Не жди меня до темноты…»
Не жди меня до темноты,
не погружай меня во тьму,
не уверяй меня, что ты
не сторож брату твоему.
И в человеке у дверей
попробуй не узреть врага,
и чужеземца обогрей
теплом родного очага.
Он будет благ, он будет слеп,
он позабудет о земном,
он будет есть твой теплый хлеб
и запивать его вином.
И, ломти темные деля
и осушив кувшин до дна,
уразумеет, что земля
у всех одна, на всех одна.
«Есть даже в грусти – счастья проблеск…»
Есть даже в грусти – счастья проблеск,
хоть беспросветность за плечами;
есть у отрады иероглиф,
есть иероглиф у печали.
Они привязчивей собаки,
они умеют сострадать:
не в силах буквенные знаки
их многогранность передать.
Но ты пойми и опосредствуй
их смысл и суть, как зыбь морей,
по букварям великих бедствий,
по чешуе календарей.
«Трудней всего понять простые вещи…»
Трудней всего понять простые вещи,
которых не окутывает мгла,
которые понятнее и резче,
чем плещущие в тучах вымпела,
чем ветер тот, который ими плещет,
чем борозды морозного чела,
прорезанные мудро и зловеще.
«Есть у сердца синий взгляд…»
Есть у сердца синий взгляд.
Вход. Наощупь. Наугад.
Только очи распахни.
Только сердце наизусть.
Ходят волны, как огни.
Где ты, радость? Где ты, грусть?
Вход. Наощупь. Наугад.
Солнцевеющий конвой.
Море, море, летний сад,
сад – привой или подвой!
И садовник в том саду,
зарубежный садовод,
видит дальнюю звезду,
дольним именем живет.
Мир и мгла в людских домах.
Влага. Сырость. Черенки.
Моря каменный размах.
Тишина в людских домах.
Сердце глохнет от тоски!
ТАНЦОР
Я совсем не танцор – а ведь это нетрудно,
есть ужасно простые, примитивные па:
развернуться, как в море уходящее судно,
и пойти и плясать – а партнерша слепа.
А партнерша судьба – или попросту фатум,
дама с придурью – но из хорошей семьи,
поверяющая чудакам простоватым
даже самые тайные мысли свои.
Ну так что же – пляши до упаду, до боли,
ну так что же – пляши, да от самой души.
Неужели тебе отдавили мозоли,
показалось — не боле – забудь и пляши…
Заостренным носком угодил в барабан ты,
барабанная шкура не терпит прорех,
обрывается вальс, и встают музыканты,
и встают оркестранты, и корчится смех.
И встают оркестранты и лаются хором,
и колышется ругань, и хамы острят, –
никогда я не стану галантным танцором,
может, стану тапером, да только навряд.
ПЕСНЯ БЕЗ МУЗЫКИ
Это песни без музыки,
только с болью в ладу, —
я их перышком узеньким
по бумаге веду.
Это кровь моя алая
зазвучала, сочась,
к ложу гибели жалуя
в мой двенадцатый час!
Все соборы вселенские
для нее – просто блажь!
Ласки тайные, женские,
ей задаром отдашь.
Поцелуи холодные,
униженья тоски,
отреченья бесплодные
да чужие грехи!
Это строки без музыки,
я сквозь шепот гряду,
это гневные узники
в позабытом саду.
«В эту полночь ветер опрокинут…»
В эту полночь ветер опрокинут,
этот полог полон тишиной:
спи, покуда из седла не вынут,
всадник, очарованный луной.
Я не знаю, сколько верст под нами,
как звенит усталая стерня.
Над землей, как траурное знамя,
небосвод колышется, звеня.
Он похож на музыку булавок,
музыкальных ящиков обман:
темный воздух густ и тугоплавок,
от людского горя воздух пьян.
А луна плывет над ветром гари,
над печальной повестью земли,
а луна колдует с ветром в паре,
просит, чтоб посуду унесли…
Ах, куда плетется всадник черный,
почему в степи такая грусть…
Я плыву под этой высью зорной,
может, к вам когда-нибудь вернусь.
«Мы ходим по мокрым панелям…»
Мы ходим по мокрым панелям,
а ветер похож на беду.
Мы ходим по мокрым панелям
и мы говорим ерунду.
А звезды на ветер похожи,
а ветер как шавка притих, –
не стоит лезть вон из кожи,
мне это, по правде, претит…
Не стоит лезть вон из кожи,
другим отбивать аппетит:
все годы на книгу похожи,
а прошлое – мелкий петит.
«Одиночество в гости пришло, понимаешь…»
Одиночество в гости пришло, понимаешь,
надо меры какие-нибудь предпринять:
что же – ты не спеша портсигар вынимаешь,
улыбаешься и пришлеца принимаешь,
как когда-то говаривали – на-ять!
Черной тенью с тобой одиночество курит,
щурит глаз – и покачивает головой,
и порою грустит, а порой балагурит,
а порой замолчит и башку вдруг понурит,
обаятельный друг – человек деловой.
Пусть погрязнет, пусть попросту влипнет в беседу,
пусть мычит, как мычат, немотою казнясь,
а когда замолчит, постучишься к соседу
и отмоешь от сердца прилипшую грязь.
«Твоя земная добродетель…»
Твоя земная добродетель,
увы, не стоит ни гроша,
ты только жалкий лжесвидетель,
живешь, секунды тормоша!
В твоих причудах и обманах
покорность жертвенной судьбе,
И ход настольных и карманных
ты поверяешь по себе.
И по сердцебиенью страсти,
и по любви в разгаре дня,
по той стремительности счастья,
которой верен ход коня.
«Плачем ночами все мы…»
Плачем ночами все мы
суше, как можно суше,
молим ночами все мы –
вызвольте наши души!
Вызвольте наши души,
струны пилите глуше, –
может, зачин поэмы
в этом размыве туши?
«Пером и от руки…»
Пером и от руки
творятся Илиады,
творятся Одиссеи
в наши дни.
Мы – жалкие зверьки,
мы – отзвук канонады,
мы – изморозь на стеклах… Пустяки!
«Душа моя, мы слишком говорливы…»
Душа моя, мы слишком говорливы
и слишком мы с тобой хлопотуны,
еще нам слишком чужды переливы
божественной морозной тишины.
Душой затишья полон голос бури,
но, может быть, расколется вода
и этот апокалипсис лазури
в серебряные хлынет провода.
Душа моя, будь пепельной и крепкой
и слишком неразумной наяву, –
впервые я над гипсовою лепкой
жестокую увидел синеву!
Нет, я такого не встречал оттенка,
а он сиял, а в нем был город весь!
Хоть лезь на стенку, хоть на стенку лезь,
кирпичная не поддается стенка!
Не синева, не серость маскарада,
а что-то, – ты мне высказать позволь:
какая-то блаженная шарада,
какая-то немереная боль.
Плыви, плыви в студеные проливы,
греши, греши, свою судьбу верша.
Душам моя, мы слишком говорливы,
мы слишком разговорчивы, Душа!
ПОРТ-САИД
Журавли улетят в Порт-Саид,
жить на юге положено птице,
ну, а мне, как всегда, предстоит
провести эту зиму в столице,
покоряясь простой судьбе,
проплутать по Москве огромной.
Ну, а что предстоит тебе,
извини за вопрос нескромный…
Журавли улетят в Порт-Саид,
ничего, что длинна дорога,
а на Чудовке церковь стоит,
в неё старушки тревожат Бога.
Я дорогу к тебе найду,
и, трезвее трезвого втрое,
я к ногам твоим упаду,
поцелуями руки покрою.
Не нужны мне чужие края,
не гляди отстранённо и чуждо,
мне нужна только дружба твоя,
а, быть может, не только дружба.
Я к ногам твоим упаду,
а потом возвратятся птицы,
и написанное на роду
обязательно совершится.
Пусть вдали от моей земли
плещет крыльями Дева-Обида,
сизогрудые журавли
возвратятся из Порт-Саида.
«Мы все одной планеты дети, одной орбиты сыновья…»