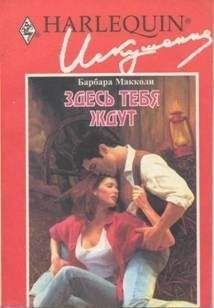Владимир Набоков - Стихотворения
119. СМЕРТЬ
Выйдут ангелы навстречу, —
многорадужная рать;
на приветствия отвечу:
не хочу я умирать!
Надо мной сомкнутся крылья,
заблистают, зазвенят…
Только вспомню, что любил я
теплых и слепых щенят.
120–136. КАПЛИ КРАСОК
Он горстью мягкою земли
и кровь и слезы многим вытер;
Он милосерден. В рай вошли
блудница бледная и мытарь.
И Он своим святым простит,
что золотые моли гибли
в лампадах и меж слитых плит
благоуханно-блеклых библий.
И в утро свежее любви
на берег женственно-отлогий
мы выбегали, и твои
босые вспыхивали ноги.
Мы задыхались в серебре
осоки сочной; и, бывало,
подставя зеркальце к заре,
ты отраженье целовала.
Черешни, осы — на лотках;
и точно отсвет моря синий,
на знойно-каменных стенах
горят, горят глаза глициний.
Белы до боли облака;
ручей звездой в овраге высох,
и, как на бархате мука,
седеет пыль на кипарисах.
Мы пели в поле, и луны
блуждало блещущее диво.
Былинки были так бледны,
так колебались боязливо.
Мы шли, — и может быть, цветок,
между былинками, в тревоге
шепнул: «я вижу, — я высок:
блуждают блещущие боги…»
Он отвернулся от холста
и в сад глядит, любуясь свято
полетом алого листка
и тенью клена лиловатой;
любуясь всем, как сын и друг, —
без недоверья, без корысти,
и капля радужная вдруг
спадает с вытянутой кисти.
Где ты, апреля ветерок —
прелестный, в яблони влюбленный?
Цветут, цветут, а ты снежок
сдуваешь этот благовонный…
В былые, благостные дни,
в холодном розовом тумане —
да, сладко сыпались они —
цветы простых очарований…
На лодке выцветшей — вдвоем —
меж камышей мы проплываем.
Я вялым двигаю веслом,
ты наклоняешься над краем.
И зеленеет глубина,
и в лени влаги появленье
илеи — белой, как луна, —
встречаешь всхлипом восхищенья…
Шептала, запрокинув лик,
ты о разлуке предстоящей, —
а я глядел, как бился блик
на дне шушукающей чащи;
как — в дымке — ландыша душа
дышала и как с тонкой ношей
полз муравей, домой спеша, —
такой решительный, хороший…
Когда-то чудо видел я;
передаю созвучьям ныне
то чудо, — но душа моя —
как птица белая на льдине,
и хоть горит мой стих живой,
мне чуждо самому волненье.
Я скован. Холод заревой
кругом. И это — вдохновенье…
Всё, что я видел, но забыл,
ты, сказка гулкая, напомни;
да: робким рыцарем я был —
и пряжка резала плечо мне.
Да. Злая встреча у ручья —
в тот вечер шелково-зеленый.
Кольчуги вражьей чешуя,
и конь под траурной попоной.
Там — говорят — бои, гроза…
А в Риме сумеречном, — тонко
подкрасив грустные глаза, —
стихи расплескиваю звонко.
Но завтра… сердца стебелек
я обнажу; из нежной раны —
в воде надушенной — дымок
возникнет матово-румяный…
Когда мы встали пред врагом,
под белоснежными стенами,
и стрелы взвизгнули кругом, —
Христос явился между нами.
Взглянул — и стрелы на лету
в цветы и в звезды превратились
и роем радостным Христу
на плечи плавно опустились.
Дыханье веера, цветы,
в янтарном небе месяц узкий…
Зевая, спрашиваешь ты,
как слово «happiness»[4] по-русски.
А в тучках нежность хризантем,
и для друзей я отмечаю,
что месяц тающий — совсем —
лимона ломтик в чашке чаю.
Твой крест печальный — красота,
твоя Голгофа — наслажденье.
Скользишь, безвольна и чиста,
из сновиденья в сновиденье;
не изменяя чистоте
своей таинственной, — кому бы
ни улыбались в темноте
твои затравленные губы.
Тоскуя в мире, как в аду, —
уродлив, судорожно-светел, —
в своем пророческом бреду
он век наш бедственный наметил.
Услыша вопль его ночной,
подумал Бог: ужель возможно,
что всё дарованное Мной
так страшно было бы и сложно?
Скользнув по стоптанной траве,
взвился он звучно, без усилья,
и засияли в синеве
давно задуманные крылья.
И мысли гордые текли
под музыку винта и ветра…
Дно исцарапанной земли
казалось бредом геометра.
Дом новый, глухо знойный день, —
и пальма, точно жестяная…
Вот он идет; глядит на тень
свою смешную, вспоминая
тень пестрых, шелковых знамен —
у сфинкса тусклого на лапе…
Остановился; жалок он
в широкополой этой шляпе…
137. ДЕТСТВО{*}
I При звуках, некогда подслушанных минувшим, —
любовью молодой и счастьем обманувшим, —
пред выцветшей давно, знакомою строкой,
с улыбкой начатой, дочитанной с тоской,
порой мы говорим: ужель всё это было?
И удивляемся, что сердце позабыло,
какая чудная нам жизнь была дана…
II Однажды, грусти полн, стоял я у окна:
братишка мой в саду, — Бог весть во что играя, —
клал камни на карниз. Вдруг, странно замирая,
подумал я: ужель и я таким же был?
И в этот миг всё то, что позже я любил,
всё, что изведал я, — обиды и успехи, —
всё затуманилось при тихом, светлом смехе
восставших предо мной младенческих годов.
III И вот мне хочется в размер простых стихов
то время заключить, когда мне было восемь,
да, только восемь лет. — Мы ничего не просим,
не знаем в эти дни, но многое душой
уж можем угадать. — Я помню дом большой,
я помню лестницу, и мраморной Венеры
меж окон статую, и в детской — полусерый
и полузолотой непостоянный свет.
IV Вставал я нехотя. (Как будущий поэт,
предпочитал я сон действительности ясной.
Конечно — не всегда: как торопил я страстно
медлительную ночь пред светлым Рождеством!)
Потом до десяти, склонившись над столом,
писал я чепуху на языке Шекспира,
а после шел гулять…
V Отдал бы я полмира,
чтоб снова увидать мир яркий, молодой, —
который видел я, когда ходил зимой
вдоль скованной Невы великолепным утром!
Снег, отливающий лазурью, перламутром,
туманом розовым подернутый гранит,—
как в ранние лета всё нежит, всё пленит!
VI Тревожишь ты меня, сон дальний, сон неверный…
Как сказочен был свет сквозь арку над Галерной!
А горка изо льда меж липок городских,
смех девочек-подруг, стук санок удалых,
рябые воробьи, чугунная ограда?
О сказка милая, о чистая отрада!
VII Увы! Всё, всё теперь мне кажется другим:
собор не так высок, и в сквере перед ним
давно деревьев нет, и уж шаров воздушных,
румяных, голубых, всем ветеркам послушных,
на серой площади никто не продает…
Да что и говорить! Мой город уж не тот…
VIII Зато остались мне тех дней воспоминанья:
я вижу, вижу вновь, как, возвратясь с гулянья,
позавтракав, ложусь в кроватку на часок.
В мечтаньях проходил назначенный мне срок…
Садилась рядом мать и мягко целовала
и пароходики в альбом мне рисовала…
Полезней всех наук был этот миг тиши!
IX Я разноцветные любил карандаши,
пахучих сургучей густые капли, краски,
бразильских бабочек и английские сказки.
Я чутко им внимал. Я был героем их:
как грозный рыцарь смел, как грустный рыцарь тих,
коленопреклонен пред смутной, пред любимой…
О, как влекли меня — Ричард непобедимый,
свободный Робин Гуд, туманный Ланцелот!
X Картинку помню я: по озеру плывет
широкий, низкий челн; на нем простерта дева,
на траурном шелку, средь белых роз, а слева
от мертвой, на корме, таинственный старик
седою головой в раздумии поник,
и праздное весло скользит по влаге сонной,
меж лилий водяных…
XI Глядел я, как влюбленный,
мечтательной тоски, видений странных полн,
на бледность этих плеч, на этот черный челн;
и ныне, как тогда, вопрос меня печалит:
к каким он берегам — неведомым — причалит,
и дева нежная проснется ли когда?
XII Назад, скорей назад, счастливые года!
Ведь я не выполнил заветов ваших тайных,
ведь жизнь была потом лишь цепью дней случайных,
прожитых без борьбы, забытых без труда.
Иль нет, ошибся я, далекие года!
Одно в душе моей осталось неизменным, —
и это — преданность виденьям несравненным, —
молитва ясная пред чистой красотой.
Я ей не изменил, и ныне пред собой
Я дверь минувшего без страха открываю
и без раскаянья былое призываю!
XIII Та жизнь была тиха, как ангела любовь.
День мирно протекал. Я вспоминаю вновь —
безоблачных небес широкое блистанье,
в коляске медленной обычное катанье
и в предзакатный час — бисквиты с молоком.
Когда же сумерки сгущались за окном,
и шторы синие, скрывая мрак зеркальный,
спускались, шелестя, и свет полупечальный,
полуотрадный ламп даль комнат озарял, —
безмолвно, сам с собой, я на полу играл;
в невинных вымыслах, с беспечностью священной,
я жизни подражал по-детски вдохновенно;
из толстых словарей мосты сооружал,
и поезд заводной уверенно бежал
по рельсам жестяным…
XIV Потом — обед вечерний.
Ночь приближается, и сердце суеверней.
Уж постлана постель, потушены огни.
Я слышу над собой: Господь тебя храни…
Крутом чернеет тьма, и только щель дверная
полоской узкою сверкает, — золотая.
Блаженно кутаюсь и, ножки подобрав,
вникаю в радугу обещанных забав…
Как сладостно тепло! И вот я позабылся…
XV И странно: мнится мне, что сон мой долго длился,
что я проснулся лишь — теперь, и что во сне,
во сне младенческом, приснилась юность мне;
что страсть, тревога, мрак — всё шутка домового,
что вот сейчас, сейчас ребенком встану снова
и в уголку свой мяч и паровоз найду…
Мечты!..
XVI Пройдут года, и с ними я уйду,
веселый, дерзостный, но втайне беззащитный,
и после, может быть, потомок любопытный,
стихи безбурные внимательно прочтя,
вздохнет, подумает: он сердцем был дитя!
138–147. АНГЕЛЫ{*}