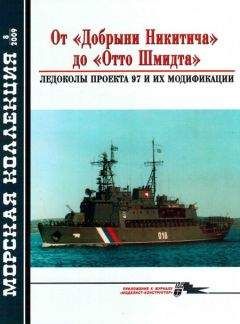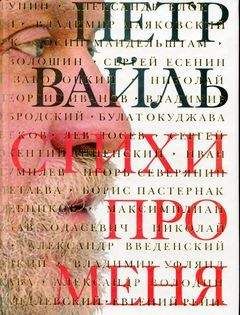Борис Чичибабин - Сияние снегов (сборник)
Непрощание с Батуми
Ну и гугняв же местный бес –
запустит дождик суток на шесть,
чтоб люди чувствовали тяжесть
непросыхаемых небес.
А мне он зла не причинял,
а я хлопот его не стою,
а мне бы стакнуться душою
с душой магнолий и чинар.
В недоуменье дух и плоть,
не разберу никак по думе, –
какой ты нации, Батуми,
и что напрял в тебе Господь.
Как ракушка – волной в ушах,
как дева – в лучевидной кроне,
о тыща и одном балконе,
о двух ажурных этажах.
И не во сне, а наяву
пестры под непогодью прыткой,
по-детски выложены плиткой
проспекты прямо в синеву.
Дано ль прочесть простым умам
узоры страхов и бесстраший,
под звонко-розовою пряжей
прибрежья зелень и туман?
Вдруг кто-то в чащу шах-шарах!
А кто? Увидеть бы, узнать бы,
но немо щурятся усадьбы
из тьмы в оранжевых шарах…
Века с недвижностью в очах
реальней здесь, чем день текущий,
и я гощу с кофейной гущей
у сна в бамбуковых дворцах.
У сердца нет иных забот,
чем жить, от волн морских святея,
где медным голосом Медея
отмщенье божие зовет.
Потопным топотом дождя
тщета веков, как пыль, прибита,
и эвкалипты Еврипида
стоят, до краешка дойдя…
Феодосия
В радостном небе разлуки зарю
дымкой печали увла́жню:
гриновским взором прощально смотрю
на генуэзскую башню.
О, как пахнуло веселою тьмой
из мушкетерского шкафа, –
рыцарь чумазый под белой чалмой –
факельноокая Кафа!
Желтая кожа нагретых камней,
жаркий и пыльный кустарник –
что-то же есть маскарадное в ней,
в улицах этих и зданьях.
Тешит дыханье, холмами зажат,
город забавный, как Пэппи,
а за холмами как птицы лежат
пестроцветущие степи.
Алым в зеленое вкрапался мак,
черные зернышки сея.
Море синеет и пенится, как
во времена Одиссея.
Чем сгоряча растранжиривать прыть
по винопийным киоскам,
лучше о Вечности поговорить
со стариком Айвазовским.
Чьи не ходили сюда корабли,
но, удалы и проворны,
сколько богатств под собой погребли
сурожскоморские волны!
Ласковой сказке поверив скорей,
чем историческим сплетням,
тем и дышу я, платан без корней,
в городе тысячелетнем.
И не нарадуюсь детским мечтам,
что, по-смешному заметен,
Осип Эмильевич Мандельштам
рыскал по улочкам этим.
Розы и соловьи
Восточный Крым – страна цветущих роз,
что из полынно-выжженного лона
взошли с трудом, и дышат утомленно,
и славят тайну хором и вразброс.
Услада уст страдающей земли,
ее грехов отпетых отпущенье, –
когда в глухом и гулком запустенье –
какое чудо! – розы расцвели.
О сколько их, смиренных, как заря,
задорно-алых, кремовых и белых,
сошло с холмов и ринулось на берег,
приютный мир за жизнь благодаря.
Сиянье роз – небесная капель,
отрадой глаз обрызгавшая землю.
Я их дыханью, вслушиваясь, внемлю,
а им полны Судак и Коктебель.
О свитки чар из света и тепла,
томящих снов бесхитростный талмудик, –
о только б раз коснуться и вдохнуть их, –
и не горька сума и кабала!
Пред ними стыдно жизни прожитой:
нам говорят безмолвные пророки
о том, что минут царствия и сроки
и мир спасется вечной красотой…
В июньской тьме, шалея от любви
к искусству пенья и впадая в ересь,
тех роз воздушно-чувственную прелесть
запойно славят птицы – соловьи.
Хоть я, признаться, в звуках соловьев
не слышу песни: как ты там ни пенься,
свисти, бульбулькай, щелкай, – всё – не песня,
коли в ней нет мелодии и слов.
Что наши судьбы, жесты, письмена,
все взмывы духа в рифмах и аккордах
пред светом роз, невинных и негордых,
чья красота учтива и смирна?
У тех тихонь венец земной тяжел:
из них жмут масло, делают варенье, –
а я сложил о них стихотворенье,
и эта блажь – не худшее из зол.
Дельфинья элегия
Как будто бы во сне повинном,
что не со всяким может статься,
я чувствую себя дельфином
на карадагской биостанции.
Зачем я дался людям глупым
и почему, хоть в скалах выбей,
мы то всего сильнее любим,
что нам приносит боль и гибель?
В бассейне замкнутом и душном,
где развернуться сердцу негде,
что в теле мне моем недужном
и в обреченном интеллекте?
Я разлучен с родимой бездной,
мне все враждебно и непрочно,
и надо мной не свод небесный,
а потолок цементно-блочный.
С тремя страдальцами другими,
утратив братьев и подругу,
плыву и прыгаю за ними
по кругу, Господи, по кругу!
Нас держат с котиками вместе,
и так расчетливо и дико
на мне сбывается возмездье
за поведенье Моби Дика.
Во славу трубящей науки,
что дуракам сулит бессмертье,
сношу бессмысленные муки
и не прошу о милосердье.
Спасибо, брат старшой, спасибо,
дитя корысти и коррупций, –
твоя мороженая рыба
не лезет в горло вольнолюбцу.
И вот – в пяти шагах от моря,
от неба синего, от рая
я с неразумия и с горя
никак не сдохну, умирая.
«Ежевечерне я в своей молитве…»
Ежевечерне я в своей молитве
вверяю Богу душу и не знаю,
проснусь с утра или ее на лифте
опустят в ад или поднимут к раю.
Последнее совсем невероятно:
я весь из фраз и верю больше фразам,
чем бытию, мои грехи и пятна
видны и невооруженным глазом.
Я все приму, на солнышке оттаяв,
нет ни одной обиды незабытой;
но Судный час, о чем смолчал Бердяев,
встречать с виной страшнее, чем с обидой.
Как больно стать навеки виноватым,
неискупимо и невозмещенно,
перед сестрою или перед братом, –
к ним не дойдет и стон из бездны черной.
И все ж клянусь, что вся отвага Данта
в часы тоски, прильнувшей к изголовью,
не так надежна и не благодатна,
как свет вины, усиленный любовью.
Все вглубь и ввысь! А не дойду до цели –
на то и жизнь, на то и воля Божья.
Мне это все открылось в Коктебеле
под шорох волн у черного подножья.
Коктебельская ода
Никогда я Богу не молился
так легко, так полно, как теперь…
Добрый день, Аленушка-Алиса,
прилетай за чудом в Коктебель.
Видишь? – я, от радости заплакав,
запрокинул голову – и вот
Киммерия, алая от маков,
в бесконечность синюю плывет.
Вся плывет в непобедимом свете,
в негасимом полдне, – и на ней,
как не знают ангелы и дети,
я не помню горестей и дней.
Дал Господь согнать с души отечность,
в час любви подняться над судьбой
и не спутать ласковую Вечность
со свирепой вольностью степной…
Как мелась волошинская грива!
Как он мной по-новому любим
меж холмов заветного залива,
что недаром назван Голубым.
Все мы здесь – кто мучились, кто пели
за глоток воды и хлеба шмат.
Боже мой, как тихо в Коктебеле, –
только волны нежные шумят.
Всем дитя и никому не прадед,
с малой травкой весело слиян,
здесь по-детски властвует и правит
царь блаженных Максимилиан.
Образ Божий, творческий и добрый,
в серой блузе, с рыжей бородой,
каждый день он с посохом и торбой
карадагской шествует грядой…
Ах, как дышит море в час вечерний,
и душа лишь вечным дорожит, –
государству, времени и черни
ничего в ней не принадлежит.
И не славен я, и не усерден,
не упорствую, и не мечусь,
и, что я воистину бессмертен,
знаю всеми органами чувств.
Это точно, это несомненно,
это просто выношено в срок,
как выносит водоросли пена
на шипучий в терниях песок.
До святого головокруженья
нас порой доводят эти сны, –
Боже мой Любви и Воскрешенья,
Боже Света, Боже Тишины!
Как Тебя люблю я в Коктебеле,
как легко дышать моей любви, –
Боже мой, таимый с колыбели,
на земле покинутый людьми!
Но земля кончается у моря,
и на ней, ликуя и любя,
глуби вод и выси неба вторя,
бесконечно верую в Тебя.
Воспоминание
Ты помнишь ли, мой ангел строгий,
в кого я двадцать лет влюблен,
какой возвышенной дорогой
мы шли на мыс Хамелеон?
Как мы карабкались по кручам,
то снизу вверх, то сверху вниз,
в краю пустынном и горючем
на этот самый чертов мыс,
как в тихой бухте при заливе
мы отдыхали в добрый час,
меж тем как тучи грозовые
ползли прямехонько на нас,
как шли назад путем хорошим,
еще сухие до поры,
робея, что поэт Волошин
нас видит со своей горы,
как напрягалась туча злая
и капли падали уже,
пытаясь выжить нас из рая,
где столько радости душе,
а мы в качающемся дыме
под надвигающейся тьмой
между овсами золотыми
бежали весело домой,
как в темных молний пересверке
под шум дождя и моря шум
мы прятались с тобой в пещерке,
где поместиться только двум,
и под разверзшеюся твердью
нас тихо полнила любовь
друг к другу, к миру и к бессмертью
в сокрытой выси голубой.
Куда ушли, куда поделись,
ярмо вседневности неся,
тот день, тот путь, тот мир в дожде весь,
каких нам век забыть нельзя?
Да не осилит сила вражья
и да откликнемся на зов
свободы, радости, бесстрашья
меж золотящихся овсов!
«Не каюсь в том, о нет, что мне казалось бренней…»