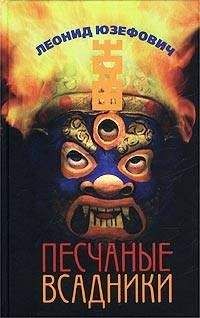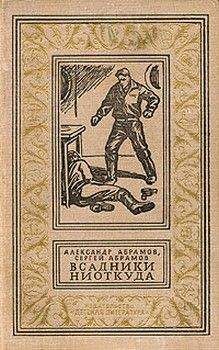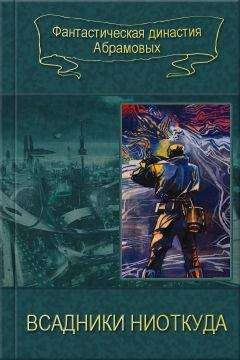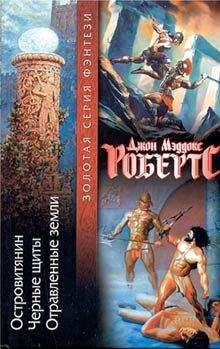Ирина Ратушинская - Стихотворения. Книга стихов
«Наш свод достаточно прочен...»
Наш свод достаточно прочен —
Как холод стеклянной колбы.
Наш мир достаточно вечен —
Мы раньше погибнем оба.
Но всё же мы пишем письма
Пустынными ноябрями.
Ты разве не знал, Создатель —
Гомункулюсы упрямы!
И будут плодить упрямых,
Стыдящихся горбить плечи,
Умеющих с Божьим взглядом
Скрестить глаза человечьи!
Так разве странно, Создатель,
Что в ходе эксперимента
Не хватит на всех смиренья,
Отпущенного для смертных?
Мы будем друг к другу — рваться!
(Ох, береги приборы!)
На все Твои лабиринты —
Выдумывая порох!
На смертную нашу муку —
Слагая слова победы,
На боль — закусив улыбку,
Без стона — в Кого бы это?
Не Твой ли закон, что глина
Лишь крепче после обжига?
Что если едины двое —
Трубою нерасторжимы!
В мерцающую колбу
Вглядись и махни рукою:
Ну что Тебе — в целом стаде,
Ведь снова отбились — двое!
...Пора выключать рубильник.
Так что же Ты медлишь, Отче?
Что можно на нас обрушить
Ещё, кроме вечной ночи?
Какой Ты ещё назначишь
Своим гордецам — завет?
...Стоим, запрокинув лица
В невыключенный свет.
«Что колышется в ритме прибоя...»
Что колышется в ритме прибоя —
Только то и вечно на свете.
В небе — чёрное и голубое,
А в столетиях — пыль столетий.
Что сменяется, то бессмертно...
Погоди, февраль, дай додумать!
Но летят воробьи со смехом,
Но с мороза весной подуло!
Сбросим шкуры и сменим души
На весенние, клочья шерсти
Оставляя — ни снов недужных,
Ни прошедшего, ни грядущего —
Не возьмём в апрельское шествие!
По ещё не просохшей тверди,
По раскинутым складкам века,
Уловляя нежданный ветер,
А придётся — так против ветра!
А когда протрубят к отбою —
Полыхнёт по глазницам снова
Небо — чёрное и голубое —
Бесконечно знакомым зовом.
«Прошедший день издох и не вернётся...»
Прошедший день издох и не вернётся.
Устроим же поминки попышней!
О да, я знаю: будет много дней
Таких же чёрных. Чем
Восточней, тем трудней
Брести сквозь них (удел первопроходца!)
Но медленная радость вечеров —
Живой водой по вымотанным жилам:
День пережит. Стихает кровь. Мы живы.
Пускай неласков край и век суров,
Но сумерек целебное питьё
Нас возвращает на иную землю,
Где с молодой отвагой мы приемлем
Свободу — и расплату за неё.
ПРИЗВАНИЕ
Сегодня Господу облака
Вылепил Микеланджело.
Ты видишь — это его рука
Над брошенными пляжами.
Над морем и городом их несёт
И над шкурой дальнего леса,
И — слышишь — уже грохочет с высот
Торжественная месса!
Сегодня строгую ткань надень
И подставь библейскому ветру.
Смотри, какой невиданный день —
Первый от сотворенья света!
Исполнится всё — лишь посмей желать,
Тебе — и резец, и право!
Ликуют тяжёлые колокола,
И рвётся дыханье, и вечность мала:
Безмерна твоя держава!
Отныне ты — мастер своих небес:
Назначишь ли путь планетам?
Изо всех чудес — поверить себе —
Труднейшее чудо света!
Но какими ты вылепишь облака —
Таким и взойти над твердью...
Так встань перед миром!
Прямей!
Ну как?
Отважишься ли — в бессмертье?
«Лукавый старец, здесь ты не солгал...»
Лукавый старец, здесь ты не солгал.
Остановить высокое мгновенье
Нам не позволит вечное сомненье:
А может, выше будет перевал?
Ведь наш зенит ещё не наступил,
И дымный запах будущей победы
Тревожит нас, и мы стремимся следом,
По-юному исполненные сил.
Но истинная наша высота
Неузнаваема, пока мгновенье длится:
Наполеон Аркольского моста
Прекраснее, чем под Аустерлицем!
И кто посмеет, будто птицу влёт,
Стоп-кадром сбить пернатую минуту?
По счастью, мы и сами, в свой черёд,
Безудержны в стремлениях и смутах.
Всегда на шаг за завтрашней чертой,
Во всех свершеньях наперёд повинны!
И если время скажет нам «постой» —
Пройдём насквозь, плечом его раздвинув.
«Сядь, закури. Мы вдвоём, но так ненадолго...»
Сядь, закури. Мы вдвоём, но так ненадолго.
Мы ничего не успеем: этот сон не имеет конца.
Нам уже не узнать,
Что за книги лежат на полках,
Что за крыша над головою,
что за лошади у крыльца.
Нас уже ждут, пора, и времени нету,
Чтоб говорить о годах, проведённых врозь.
Наше с тобой «вдвоём» — на одну сигарету,
На молчаливый миг —
Глаза в глаза и насквозь.
Знаю: мы что-то везём туда, где нас ожидают,
Что-то важнее нас и наших потерь.
Что ж, мы готовы в путь,
Но докурим, пока седлают,
И намертво сцепим руки, пока отворяют дверь.
«Человек со свёрнутым в трубку ковром...»
Человек со свёрнутым в трубку ковром
Куда-то шагает вечером.
Вот сейчас он скроется за поворот —
И уйдёт, никем не замеченный.
И никто не узнает, что там на ковре —
Птицы или олени.
И откуда он взялся на нашем дворе,
Где матери — в окнах, а дети — в игре,
Где старушки в кивающем серебре
Держат памятью три поколенья?
Во дворе, где знают по именам —
Кто убит, кто жив, кто уехал,
И кого зовёт из чьего окна
Надтреснутая Пьеха!
Мимо стука костяшек за стёртым столом
И доцентова автомобиля —
Он проходит, неся на плече рулон
С чуть заметным запахом пыли.
Может, он на этом ковре живёт,
И, найдя подходящее место,
По-хозяйски велит: — Расстелись, ковёр! —
Предварив заклятьем уместным.
И ковёр развернётся со всем, что на нём:
С этажеркой и клавесином,
И с продавленным креслом,
И лампой с огнём,
И с играющим в кубики сыном.
А быть может, ковёр обучен летать —
И тогда, завершая прогулку,
Он шарахнется вверх, не оставя следа,
Из пустынного переулка.
И блаженно расправит упругий квадрат,
С южным ветром знакомый коротко!
А хозяин будет курить до утра,
Наблюдая мерцанье города.
А потом потеряется в синеве,
Обронив невнятное слово...
Чудак-человек,
Чужак-человек,
Чего и ждать от такого!
«Ну не то чтобы страшно...»
Ну не то чтобы страшно,
А всё же не по себе.
И обидно: вдруг сына родить уже не успею.
Потому что сердце сдаёт, и руки слабеют —
Я держусь,
Но они, проклятые, всё слабей!
Я могла бы детские книжки писать,
И я лошадей любила,
И любила сидеть на загривке своей скалы,
И умела, в море входя, рассчитывать силы,
А когда рассчитывать не на что —
Всё же как-то доплыть.
Я ещё летала во сне, и мороз по коже
Проходил от мысли, что скоро и мне пора.
Но уже прозвучало: «Если не я, то кто же?»
Так давно прозвучало —
Мне было не выбирать!
Потому что стыдно весь век за чаями спорить,
Потому что погибли лучшие всей земли!
Помолитесь, отец Александр, за ушедших в море,
И ещё за землю,
С которой они ушли.
«Где-то маятник ходит, и плачет негромко кукушка...»
Где-то маятник ходит, и плачет негромко кукушка,
Что считать ей часы, а не долгие годы для нас.
И в оставленном доме всё с той же заботой старушка
Закрывает по-прежнему ставни в положенный час.
Где-то в сумерках лампа горит, шевелится вязанье,
И хранятся нечастые письма, и ждут новостей.
А она, как обычно, печалясь одними глазами,
Без нужды поправляет портреты подросших детей.
И за что нам такое,
И кто перед нею не грешен?
И кому, уходящему, вслед не чертила креста?
Но кого она любит — да будет спасён и утешен.
И кого она ждёт — пусть, вернувшись,
успеет застать.
ИАКОВ