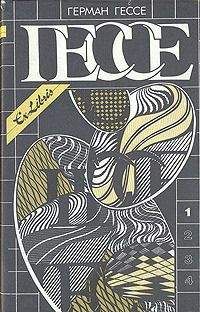Лидия Алексеева - Горькое счастье: Собрание сочинений
«На холме у церкви, на рассвете…»
На холме у церкви, на рассвете
Просидеть блаженных полчаса…
Иногда чудесно жить на свете –
Этот щебет, холодок, роса…
За горою рденье огневое,
Миг – и солнца золотой поток,
И тепло прозрачное, живое,
Божьей лаской греющее лоб,
И дымок от сохнущей скамейки,
И росой тяжелая трава,
И, со сна и трепетны, и клейки,
Молодых березок кружева…
В лагере в лесу проснулись дети –
Утренние звонки голоса.
На холме у церкви, на рассвете,
Как молитва, эти полчаса.
«Я уцелела, доплыла…»
Я уцелела, доплыла,
Взобра лась на уступ.
Она мала, моя скала,
Прибой у самых губ.
Скала в серебряной пыли,
Сверкает, как слюда.
И тени нет, и нет земли,
Вокруг одна вода.
Прибой у дальних берегов,
Как белая змея…
Нет больше чувств, нет больше слов,
Есть только мир и я.
«Отомкнуть земные двери…»
Отомкнуть земные двери,
Разойтись волной…
Ни разлуки, ни потери
Больше ни одной.
Только мерное движенье
Вечного огня
И покой уничтоженья
Мира и меня.
«Листва сошла и веткам легче стало…»
Листва сошла и веткам легче стало,
Прозрачный воздух омывает их.
Мы устаем – и дерево устало,
И даже ветер умирено тих.
Он будет веток бережно касаться
И зимнему не помешает сну,
Но как им будет сладко просыпаться –
Подумать только! – КАЖДУЮ ВЕСНУ!..
ПОЭТИЧЕСКИЕ ПЕРЕВОДЫ
С СЕРБОХОРВАТСКОГО
ИВАН ГУНДУЛИЧ (1589—1638)
СЛЕЗЫ БЛУДНОГО СЫНА
ПЛАЧ ПЕРВЫЙ. Согрешение
…расточил имение свое, живя распутно.
От Луки 15, ст. 13
Горько слезы лью потоком,
слезы горестного плача,
те, что блудный сын жестоко
проливать когда-то начал;
так и я грехи оплачу —
слезы в слезы, плач во плаче.
Божье Слово, Сын предвечный,
смертной плотью одеянный,
чтоб от смерти мир излечен
был – и жизнь навек дана нам,
Слово, что в едином лике
человек и Бог великий, —
да слетит к нам дух Господень
пресвятой, живой, единый,
дух, что от Отца исходит
и Тебя — от Бога-Сына, —
в голос мой войди, как в чуде
пусть ему внимают люди.
В благости Твоей безмерной
Ты прости мне, Иисусе,
если что скажу неверно,
если в чем и ошибусь я, —
слабость только человечна.
Божья мудрость бесконечна.
И, оглохнувшую совесть
чтоб склонить на покаянье,
расскажу ей эту повесть лжи,
обмана и страданья.
Кто раскаялся, тот может
ждать прощенья властью Божьей.
Так и врач вскрывает смело
рану, гной ее счищая,
тех червей, что гложут тело,
не гнушаясь, не смущаясь;
боль пройдет. Омыто кровью,
долгое придет здоровье.
Ты себя узнаешь, грешник,
в этом горестном примере:
кайся же в грехах кромешных,
обратись к добру с доверьем.
Божья милость крепче,
выше нынешних грехов и бывших.
День — по ночи, человека
по его кончине судят.
Милость Вышнего от века
с тем, кто жарко верит, будет.
Верь, надейся, приготовясь
слушать грешной жизни повесть.
В роще, где дубы столпились
над стесненными кустами
и над пропастью склонились
исполинскими стволами,
а над ними гор вершины
высят снежные седины, —
сын, свою наследства долю
расточивший, блудный нищий,
видит желуди — их вволю
для животных сытной пищи.
Без еды, без сил, без крова
он упал у пня сухого.
Так, вздыхающий в пустыне
и от голода бессильный,
он завидовал скотине
и еде ее обильной,
и мечтал поесть в уныньи
пойла, что хлебают свиньи.
Он, сменивший в святотатстве
столько доброго на злое,
нищенством сменив богатство,
имя честное — хулою,
в горькой вопиет обиде,
сам себя в себе не видя:
— Я ль тот юноша прекрасный,
юноша, желанный всеми,
кто в любви и неге страстной
проводил беспечно время, —
знатен, славен, избалован
лестью, службой, взглядом, словом?
Если я, увы, всё тот же, —
где тогда мой пурпур модный,
мягкость шелковой одежи,
к телу льнущей благородно?
Где пиры мои и слуги,
где друзья и где подруги?
Ах, себя в себе не зная,
видно — уж не тот я ныне, —
всеми брошен, изнывая,
в этой каменной пустыне,
даже голый этот щебень
холодом ко мне враждебен.
Вместо пищи мне роскошной
в золотом покойном зале,
вместо слуг, что денно-нощно
моего приказа ждали,
вместо пышной мне постели,
где младые сны летели, —
яствами моими стала
горькая трава, друзьями —
свиньи, домом — эти скалы,
изголовьем — твердый камень,
а периною отборной —
пыль земли холодной, черной.
И дворовым слугам лучше —
в доме отчем сыты, знаю, —
голодом и скорбью мучим,
я в пустыне умираю
и напрасно зверем рыщу,
чтоб сыскать желудку пищу.
Ах, до этого не ты ли
довела меня изменой?
Ты, что стала всех постылей,
ласковой была, смиренной,
чтоб, связав меня любовью,
ты моей питалась кровью.
Ах, безумная, в ком нету
ни закона, ни предела,
ах, беспутная, что свету
ложь за правду выдашь смело,
чьей душе неведом тоже
стыд и страх — людской и Божий.
И в огне нечистой жажды
ты сойтись могла со всеми,
был тебе приемлем каждый
твой земляк и чужеземец,
кто, блудя в сетях соблазна,
мог прельститься сделкой грязной.
С кем ты только не водилась,
в чьих объятьях не уснула,
и кому не изменила,
и кого не обманула?
Вечно суетна и лжива,
зла, порочна и сварлива.
Утаить во мне нет силы,
как разбила жизнь мою ты,
расскажу, как ослепила
в те обманные минуты.
Закопаю в эти горы
твой позор, мои укоры.
Золотую прядь небрежно
ты на белый лоб спустила,
светом ласковым и нежным
взор сиял, как солнце милый.
И в лице цвели, манили
лепестки и роз, и лилий.
Губы — ярче, чем кораллы,
грудь белее пены снежной,
и улыбка мне сияла,
«Дай мне сердце» — молвя нежно,
повторял «О, дай его мне»
взгляд любовный, ласки полный.
Всё в ней прелесть и томленье,
в каждом шаге и изгибе:
чтоб будили вожделенье,
вожделенье было — гибель…
О рука белее снега,
стоп танцующая нега…
Лжи бесстыдной и умелой
я поверил безрассудно, —
ведьма ж старая умела
красоту подделать чудно,
сделав мазями моложе
серый цвет увядшей кожи.
Волосы сняла с покойниц —
изо рта червей в могиле, —
на себя надев спокойно,
чтобы золотом манили,
чтобы то, что было смертью,
стало нежной страсти сетью.
А лица унылый пепел,
желтый, высохший, в веснушках,
стал, как день, великолепен,
стал искусною ловушкой,
что черно — то белым стало
там, где чести не бывало.
Синий рот — в таком же
роде алым цветом расписала,
чтобы он, назло природе,
стал румянее коралла,
чтоб весны сияло пламя,
гниль и зиму скрыв цветами.
В волосах лежит живая цепь
цветов венком тяжелым,
и с ушей цветы кивают,
и к груди цветок приколот,
и в цветы спустила руку,
и она — в цветах гадюка.
Мед в речах, отрава — в глуби,
блеск в очах, в груди же льдина,
говорит: люблю, — не любит,
льнет к тебе, а взор змеиный;
дело с мыслью не сойдется,
предает, и лжет, и вьется.
Я лишь к ней горю любовью,
в ней — вся радость и тревога,
ночи целые готов я
у ее бродить порога,
прославляя стройной песней
ту, что сердцу всех прелестней.
А она мне, так послушно
в сети пойманному милой,
говорит, что равнодушна
и к любви моей остыла.
На нее гляжу в невзгоде,
а она глаза отводит.
Холод — мой огонь вздувает,
гнев — любовь несчетно множит,
лед — как уголь раскаляет,
и она мне всё дороже.
Сладко мне страданья пламя,
всё она перед пазами.
Убегает — я за нею,
прячется — пишу ей, тая,
как по ней грущу, бледнею,
сохну, жду, томлюсь, вздыхаю, —
а она порвет и бросит
то письмо: иного просит.
Я, любви ее желая,
стать хочу нарядом краше —
шелк ношу, цветок вдеваю,
и лицо и кудри крашу —
я по ней вздыхаю страстно, —
не глядит, и всё напрасно.
Я, не в силах примириться,
хитрости иные начал —
по-иному стал рядиться
и любовной ждать удачи,
полон лести, песен, смеха, —
только снова без успеха.
Наконец рука схватила
деньги — острый меч, которым
вдруг в осколки раздробила
панцирь крепкий и упорный,
чтоб, победою избранный,
я достиг моей желанной.
Как меняется, как страстью
искрится ее пыланье,
мол она сочтет за счастье
утолять мое желанье.
И в глаза глядит и млеет,
И вздыхает, и бледнеет.
Я, приметы видя эти,
не скуплюсь — была б со мною,
я готов ей всё на свете
оплатить любой ценою,
и растут надежды жарко
с каждым принятым подарком.
Я в безудержном стремленьи
золота всё больше трачу,
драгоценные каменья,
жемчуга ей шлю в придачу, —
на словах юлит и вьется,
обещает — не дается.
Взгляд распутный и задорный,
сладкий смех с медовым словом,
вздох блаженный, но притворный,
знаки сердца ледяного —
вот лекарства, что на рану
налагала непрестанно.
Золото плывет потоком,
убегает без возврата;
я бледнею, я жестоко
умираю, — мне же плата
за страданья здесь на свете —
дым и ветер, дым и ветер.
Жарким вздохом умоляю
не томить так бессердечно,
но она юлит, виляет,
обещает — лжет, конечно,
так хитро играя мною,
будто я всему виною.
Так летят и дни и ночи, —
задыхаясь, наудачу,
изо всей последней мочи
я мое богатство трачу.
Слепнет совесть, меркнет разум,
страшная в крови зараза.
Наконец водою полой,
что уносит всё, что может,
и, гремя со скал тяжелых,
валит лес и поле гложет,
и последнее, что было,
золото до капли смыло.
Но богатство наживное
потерять не так опасно,
если бы владела мною
чистота души прекрасной, —
но ее, как всё именье,
ты прожгла без сожаленья.
Нет вины, греха такого,
зла, которым я гнушался, —
нарушал закон и слово,
грабил, крал и пресмыкался,
даже худшее изведал:
Бога позабыл и предал.
Человечий лик мутится,
чуждым закрываясь ликом,
всякая во мне частица
изменилась в зле великом,
даже плоть, предавшись тленью,
обернулась страшной тенью.
В голове надменной стыли
мысли гордости великой,
и морщины испещрили
лоб глубоко, зло и дико,
и в лице холодном, бледном
честь сменил порок победно.
И глаза метали взгляды,
сея темное и злое,
и язык, облитый ядом,
горькой пенился хулою,
изрыгая в мир потоком
мерзкий смрад и кровь порока.
Уши слушали покорно
все советы алчной злобы,
и зияло вечно горло,
ненасытной путь утробы;
руки — жадны, торопливы,
ноги — к доброму ленивы.
Голова, глаза и уши,
горло, рот мой, руки, ноги, —
и, как тело, меркнут души,
и у злобы ходы многи:
стал я чудищем, и даже
безобразней всех и гаже.
Но когда б я ни услышал
о себе молву худую –
говорил: то злоба пышет,
зависть низкая бунтует,
и родным на все укоры
клялся – всё, мол, было вздором.
Я друзей оставил старых
и привлек беспутных, новых,
тех, что, мне подобно, жару
отдавались дел греховных.
Всюду в их сопровожденьи,
им почет и угощенье.
С ними я бродил всё время
у порога милой, даже
сторожил я с ними всеми,
не взглянул бы кто туда же,
и своей обманут тенью
был в ревнивом подозреньи.
Если ж только мимо двери,
не взглянув, прошел идущий,
я, в вине его уверен,
губы грыз в обиде пущей.
А уж в доме б — только слово –
друга сжег живьем любого.
Сколько слов, поступков черных
и растрат, пока добился
от нее, к чему упорно
в блудных помыслах стремился,
что она, злодейка, шало
многим прежде разрешала.
На песке, увы, тот зиждет,
по морской гуляет пене,
вихрь в горах летучий ищет,
размягчает скал скрепленья,
море ковшиком черпает,
гада греет, льва ласкает,
в рабской доле ищет неги,
сил найти в болезни хочет,
в розах камень, роз на снеге,
снег на солнце, солнца в ночи, —
кто любви поверит, данной
женщиной непостоянной.
Напоследок допускает
и меня в покой к себе и
ест со мной и пьет, лаская,
как змея, скользит по шее, —
ядовита, зла и лжива,
ненасытна и блудлива.
Богом мне была, и чтобы
не остыло жженье блуда,
лил а в жадную утробу
вина, лакомые блюда –
так испробовал в обжорстве
всех питей и явств заморских.
День и ночь, ежеминутно,
с ней мой грех стократно множа,
а, узлом нечистым спутан,
слеп и гибнул безнадежно —
словно пес в дверях, для смеху,
всем на диво и потеху.
Ах, довольно в блудном плясе
раз забыть о чести только,
зеркало разбив на части,
за плечи швырнуть осколки:
пусть не нам, другим повсюду
наши язвы видны будут.
Так, живя как скот в пещере,
что пришлось пасти теперь мне,
в смрадном блуде и неверьи
скверну я растил на скверне,
весь облеплен едкой грязью
преступленья, безобразья.
Ах, от срама весь немеет
мой язык, когда я вижу
блудный жар, что, пламенея,
всё во мне спалил и выжег,
чтоб потом, в конце позорном,
развалиться пеплом черным.
И когда ей отдал всё я,
и когда ей стало ясно,
видя нищенство босое, —
больше требовать напрасно, —
что и так уже из тела
кости выжала и съела,
что остался гол, измучен,
обесчещен тьмой постылой,
даже бедный солнца луч ей
принести уже не в силах, —
прочь пошла, и не взглянула,
мертвую любовь — стряхнула.
Вот любви безумной прибыль.
Но не ведая такого,
я привычно, на погибель,
потянулся к блуду снова;
только тщетно взор мой ищет —
незнаком ей жалкий нищий.
Как цветок бросают вялый,
если блеск его утерян,
так меня ты ощипала,
чтоб потом швырнуть за двери,
чтоб и мысль о прежней славе
в уличной грязи оставил.
Если б золотыми стали
горы, нивы и покосы,
реки золотом стекали,
золотом весь мир порос бы —
не залить им сотой доли
ненасытной женской воли.
Красота, любовь и смелость,
разум твой — одни рассказы.
Ей, каков ты, нет и дела,
что имеешь — видит сразу, —
только б золото присвоить,
а тебя потом — в помои.
Отдал суетному блуду
разум, честь и состоянье,
ждет меня теперь повсюду
только скорбь и покаянье.
Лишь подумаю в печали,
кем я стал, кем был в начале.
ПЛАЧ ВТОРОЙ. Познание греха