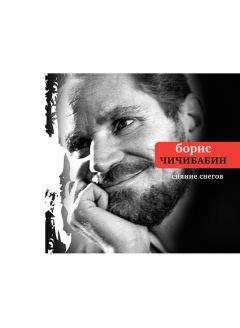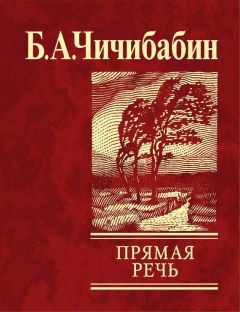Борис Чичибабин - Собрание стихотворений
Не отвечал я вам на первое письмо, потому что ваши рассуждения о Бальмонте и вообще о стихах мне чужды и не только не интересны, но и неприятны. Я вообще считаю, что слово, служащее выражением мысли, истины, проявления духа, есть такое важное дело, что примешивать к нему соображения о размере, ритме и рифме и жертвовать для них ясностью и простотой есть кощунство и такой же неразумный поступок, каким был бы поступок пахаря, который, идя за плугом, выделывал бы танцевальные па, нарушая этим прямоту и правильность борозды. Стихотворство есть, на мой взгляд, даже когда оно хорошее, очень глупое суеверие. Когда же оно еще и плохое и бессодержательное, как у теперешних стихотворцев, — самое праздное, бесполезное и смешное занятие. Не советую заниматься этим именно вам, потому что по письмам вашим вижу, что вы можете глубоко мыслить и ясно выражать свои мысли.
Лев Толстой. Из письма 14.01.1908 г.Умер мой дядя (муж сестры моей матери) А. М. Жемчужников… Он был поэт. Л. Н. не признавал в нем никакого поэтического дара и даже самого примитивного понимания поэзии. Он считал, что все, что пишет Жемчужников, это зарифмованная, скучная и никому не нужная проза. Но я думаю, что Л. Н. тут, как с ним часто бывает, слишком строг и требователен. Л. Н. признает всего пять поэтов — Пушкина, Лермонтова, Баратынского (за его «Смерть»), Фета и Тютчева.
М. С. Сухотин. Запись в дневнике 11.03.1908 г.Ну а кого ему еще
любить прикажете?..
Саднит у пахаря плечо
на Божьей пажити.
Балует солнце в бороде,
щекотку делая.
Идет по черной борозде
лошадка белая…
С потопом схож двадцатый век:
рулим на камешек.
А он пустил бы в свой ковчег
моих неканувших?
Сгодился б Осип Мандельштам
для «Круга чтения»?
Ведь вот кого он выбрал сам.
Мое почтение!..
Идет на мир девятый вал.
Мертво писательство.
Не зря стихов не признавал
его сиятельство.
А я родился сиротой
и мучусь родиной.
Тому ли спорить с Бородой,
кто сам юродивый?
Гордыне лет земных чужой
с их злом и ложию,
тоскую темною душой
по Царству Божию.
Лущу зерно из шелухи,
влюбляюсь, верую.
Да мерит брат мои стихи
толстовской мерою.
ПОЭТЫ ПУШКИНСКОЙ ПОРЫ{189}
Поэты пушкинской поры
в своих сердцах несли сквозь годы
Ответственности и Свободы
неразделенные миры.
О тайной вольности восходы!
О веры вешние пиры!
В них страсть и вера, ум и совесть,
обнявшись, шли одним путем —
да разошлись они потом,
как Фет с Некрасовым, поссорясь.
Поэты пушкинской поры,
чья в царстве льдов завидна доля,
беспечны были и добры,
сады святынь растя и холя.
И нам бесценны их дары.
Как высота святой горы,
где свет, и высь, и даль, и воля,
пред низиной мирского поля, —
поэты пушкинской поры.
* * * Покамест есть охота{190},
покуда есть друзья,
давайте делать что-то,
иначе жить нельзя.
Ни смысла и ни лада,
и дни как решето, —
и что-то делать надо,
хоть неизвестно что.
Ведь срок летуч и краток,
вся жизнь — в одной горсти, —
так надобно ж в порядок
хоть душу привести.
Давайте что-то делать,
чтоб духу не пропасть,
чтоб не глумилась челядь
и не кичилась власть.
Никто из нас не рыцарь,
не праведник челом,
но можно ли мириться
с неправдою и злом?
Давайте делать что-то
и, черт нас подери,
поставим Дон Кихота
уму в поводыри.
Пусть наша плоть недужна
и безысходна тьма,
но что-то делать нужно,
чтоб не сойти с ума.
Уже и то отрада
у запертых ворот,
что все, чего не надо,
известно наперед.
Решай скорее, кто ты,
на чьей ты стороне, —
обрыдли анекдоты
с похмельем наравне.
Давайте что-то делать,
опомнимся потом, —
стихи мои и те вот
об этом об одном.
За Божий свет в ответе
мы все вину несем.
Неужто все на свете
окончится на сем?
Давайте ж делать то, что
Господь душе велел,
чтоб ей не стало тошно
от наших горьких дел!
9 ЯНВАРЯ 1980 ГОДА{191}
И снова зажгутся, коль нам повезет,
на сосенке свечи,
и тихо опустится с тихих высот
рождественский вечер.
И рыжая киска приткнется у ног,
и закусь на блюде,
и снова сойдутся на наш огонек
хорошие люди.
Вот тут бы и вспомнить о вере былой,
о радостях старых,
о буйных тихонях, что этой порой
кемарят на нарах.
Но, тишь возмутив, окаянное дно
я в чаше увижу
и в ночь золотую набычусь хмельно
и друга обижу.
И стану в отчаянье, зюзя из зюзь,
стучать по стаканам
с надменной надеждой: авось откуплюсь
стихом покаянным.
Упершись локтем в ненадежность стола,
в обличье убогом,
провою его, забывая слова,
внушенные Богом.
О, мне бы хоть горстку с души соскрести,
в чем совесть повинна.
Прости мне, Марлена, и Генчик, прости,
и Шмеркина Инна.
Спокойно, друзья, отходите ко сну,
поверьте заздравью,
что завтра я с чистой страницы начну
свою биографью.
Но дайте мне, дайте мне веры в меня
хоть малую каплю…
Вот так я, хмельной, погоняю коня
и так я лукавлю.
А свечи святые давно сожжены
под серою сенью,
и в сердце волнуемом нет тишины,
и нет мне прощенья.
Не мне, о, не мне говорить вам про честь:
в родимых ламанчах
я самый бессовестный что ни на есть
трепач и обманщик.
Пока я вслепую болтаю и пью,
игруч и отыгрист,
в душе моей спорят за душу мою
Христос и Антихрист.
* * * Я не знаю, пленник и урод{192},
славного гражданства,
для чего, как я, такому вот
на земле рождаться.
Никому добра я не принес
на земле на этой,
в темном мире не убавил слез,
не прибавил света.
Я не вижу меж добром и злом
зримого предела,
я не знаю в царстве деловом
никакого дела.
Я кричу стихи свои глухим,
как собака вою…
Господи, прими мои грехи,
отпусти на волю.
* * * Я нá землю упал с неведомой звезды{193},
с приснившейся звезды на каменную землю,
где, сколько б я ни жил, отроду не приемлю
ни тяжести мирской, ни дружбы, ни вражды.
Как с буднями, звезда, нездешним сердцем сжиться,
коль тополи в снегу мне в тыщу раз важней
всех выездов и смут, певичек и вождей,
а Моцарт и Паскаль отзывней сослуживца?
Что делать мне, звезда, проснувшись поутру?
Я с ближними в их рай не мечу наудачу,
с их сласти не смеюсь, с их горечи не плачу
и с ними не игрок в их грустную игру.
Что значу я, звезда, в день моего рожденья,
колодец без воды и дуб без желудей?
Дано ль мне полюбить косматый мир людей,
как с детства я люблю животных и растенья?
И как мне быть, звезда, на каменной земле,
где телу земляка люба своя рубаха,
так просто обойтись без воздуха и Баха
и свету не найтись в бесколокольной мгле?
Как жить мне на земле, ни с чем земным не споря?
Да будут сны мои младенчески чисты
и не предам вовек рождественской звезды,
откуда я упал на землю зла и горя.
ДЕВОЧКА СУЗДАЛЬ{194}
О, Русь моя, жена моя…
А. Блок
Когда воплощаются сердца мечты,
душа не безуста ль?
А не было чуда небесней, чем ты,
ах, девочка Суздаль!
Ясна и прелестна, добра и нежна
во всем православье —
из сказки царевна, из песни княжна
и в жизни сестра мне.
Как свечи, святыни твои возжены, —
пестра во цветенье, —
не тронет старинной твоей тишины
Петра нетерпенье.
Но жизней мильон у Руси на кону —
и выси ли, бездне ль —
о, как она служит незнамо кому,
родимая безмерь!..
Ты ж дремлешь, серебряна и голуба,
средь темного мира
такой, как ремесленная голытьба
твой лик сохранила.
Ни грустного Пруста с собой не возьму,
ни Джойса, ни Кафку
на эту дарящую радость всему
зеленую травку.
В дали монастырской туман во садах,
полощется пашня, —
ах, девочка Суздаль, твоя высота
по-детски домашня.
Так весело сердцу, так празднует взгляд,
как будто Иисус дал
им этот казнимый и сказочный град —
раздольную Суздаль.
Как будто я жил во чужой стороне,
и вот мне явилось
то детство, какого не выпало мне,
какое лишь снилось.
Уйдут, ко святым прикоснувшись местам,
обиды и усталь, —
ты девочкой будь, ты женою не стань,
пресветлая Суздаль.
Какой ни застынь поворот головы —
и в смутах не смеркли, —
полетно поют со смиренной травы
рассветные церкви.
В воде отражается храм небольшой,
возросший над нею,
и в зареве улиц притихшей душой
к России роднею.
О, как бы любил я ее и, любя,
как был бы блажен я,
когда б мог увидеть, взглянув на тебя,
ее отраженье!
ЭПИТАЛАМА, СВАДЕБНАЯ ПЕСНЬ{195}
О Гименей-Христос, о нежный Гименей!
Благослови двух душ бесстрашную единость,
наставь и укрепи, слепи, смешай, сведи нас
в убожестве Твоем — в духовности Твоей.
О скорбный Гименей, кто плотницким вином
стол бедных одарил в рассказе Иоанна,
чей образ обрастал одеждами обмана,
будь с нами, как тогда, во времени ином.
От нашей немоты, о ясный Гименей,
не пастырь наш, а брат, прими обет венчальный,
благослови обряд блаженный и печальный
средь попранных святынь, обобранных камней.
От бренности и лжи в мечте своей омой,
избави от стыда и, отрешив от странствий,
прощенным счастье дай друг другу молвить «Здравствуй»,
прижать к лицу лицо вернувшимся домой.
О сердце и чело, отвергнувшие злость!
О легкий Гименей, сквозь рознь благослови нас,
чтоб канула во тлен былая половинность
и Целое из нас собралось и зажглось.
Две тьмы преобрази в сияние одно,
благослови на жизнь, благослови на вечность,
дай любящим прозреть в конечном бесконечность,
испить в земных водах небесное вино.
О Гименей-Христос, о тихий Гименей,
открой нам нашу высь, чтоб, низости переча,
друг с другом и с Тобой увечненная встреча
в бессмертие вела средь смертоносных дней.
Да примем в брачный дар Твой жертвенный венец,
о кроткий Гименей, как в Кане Галилейской,
раскаявшихся душ ласкающею леской
из мертвых вод времен для вечности ловец.
Да с верой длань Твоя коснется наших лбов,
играющий с детьми и сам Дитя Господне,
чтоб Царствие Твое исполнилось сегодня
и вызрела в сердцах всемирная любовь.
И в терньях, и в цепях, свободный Гименей,
упрочь наш брачный дом, о бесприютный путник,
в стране берез и верб, где есть Толстой и Пушкин,
что сладостней, чем мед, и соли солоней.
А если станет в ней безлюдней и темней
и недостойный стон из недр во сне исторгнем,
да устыдимся уз, да будет даром долг нам,
о радостный Иисус, о светлый Гименей!
* * * О, дай нам Бог внимательных бессонниц{196},
чтоб каждый мог, придя под грубый кров
как самозванец, вдруг с далеких звонниц
услышать гул святых колоколов.
Той мзды печаль укорна и старинна,
щемит полынь, прощает синева.
О брат мой Осип и сестра Марина,
спасибо вам за судьбы и слова.
О, трижды нет! Не дерзок я, не ловок,
чтоб звать в родню двух лир безродный звон.
У ваших ног, натруженных, в оковах,
я нищ и мал. Не брезгуйте ж родством.
Когда в душе, как благовест Господний,
звучат стихи с воскреснувших страниц,
освободясь из дымной преисподней,
она лежит простершаяся ниц
и, слушая, наслушаться не может,
из тьмы чужой пришедшая домой,
и жалкий век, что ею в муках прожит,
не страшен ей, блаженной и немой.
И думает беглянка ниоткуда:
«Спасибо всем, кто дал мне их прочесть.
Как хорошо, что есть на свете Чудо,
хоть никому, хоть изредка, но есть.
А где их прах, в какой ночи овражной?
И ей известно ль, ведает ли он,
какой рубеж, возвышенный и страшный,
в их разобщенных снах запечатлен?
Пусть не замучит совесть негодяя,
но чуткий слух откликнется на зов…»
Так думает душа моя, когда я
не сплю ночей над истиной стихов.
О, ей бы так, на ангельском морозе б
пронзить собой все зоны и слои.
Сестра моя Марина, брат мой Осип,
спасибо вам, сожженные мои!
Спасибо вам, о грешные, о божьи,
в святых венцах веселий и тревог!
Простите мне, что я намного позже
услышал вас, чем должен был и мог.
Таков наш век. Не слышим и не знаем.
Одно словечко в Вечность обронив,
не грежу я высоким вашим раем.
Косноязычен, робок и ленив,
всю жизнь молюсь без имени и жеста, —
и ты, сестра, за боль мою моли,
чтоб ей занять свое святое место
у ваших ног, нетленные мои.
ПРИЗНАНИЕ{197}
Зима шуршит снежком по золотым аллейкам,
надежно хороня земную черноту,
и по тому снежку идет Шолом-Алейхем
с усмешечкой, в очках, с оскоминкой во рту.
В провидческой тоске, сорочьих сборищ мимо,
в последний раз идет по родине своей, —
а мне на той земле до мук необъяснимо,
откуда я пришел, зачем живу на ней.
Смущаясь и таясь, как будто я обманщик,
у холода и тьмы о солнышке молю,
и все мне снится сон, что я еврейский мальчик,
и в этом русском сне я прожил жизнь мою.
Мосты мои висят, беспомощны и шатки —
уйти бы от греха, забыться бы на миг!..
Отрушиваю снег с невыносимой шапки
и попадаю в круг друзей глухонемых.
В душе моей поют сиротские соборы,
и белый снег метет меж сосен и берез,
но те, кого люблю, на приговоры скоры
и грозный суд вершат не в шутку, а всерьез.
О, нам хотя б на грош смиренья и печали,
безгневной тишины, безревностной любви!
Мы смыслом изошли, мы духом обнищали,
и жизнь у нас на лжи, а храмы — на крови.
Мы рушим на века — и лишь на годы строим,
мы давимся в гробах, а Божий мир широк.
Игра не стоит свеч, и грустно быть героем,
ни Богу, ни себе не в радость и не впрок.
А я один из тех, кто ведает и мямлит
и напрягает слух пред мировым концом.
Пока я вижу сны, еще я добрый Гамлет,
но шпагу обнажу — и стану мертвецом.
Я на ветру продрог, я в оттепели вымок,
заплутавшись в лесу, почуявши дымок,
в кругу моих друзей, меж близких и любимых,
о как я одинок! О как я одинок!
За прожитую жизнь у всех прошу прощенья
и улыбаюсь всем, и плачу обо всех —
но как боится стих небратского прочтенья,
как страшен для него ошибочный успех…
Уйдет вода из рек, и птиц не станет певчих,
и окаянной тьмой затмится белый свет.
Но попусту звенит дурацкий мой бубенчик
о нищете мирской, о суете сует.
Уйдет вода из рек, и льды вернутся снова,
и станет плотью тень, и оборвется нить.
О как нас Бог зовет! А мы не слышим зова.
И в мире ничего нельзя переменить.
Когда за мной придут, мы снова будем квиты.
Ведь на земле никто ни в чем не виноват.
А все ж мы все на ней одной виной повиты,
и всем нам суждена одна дорога в ад.
НА ВЕЧНУЮ ЖИЗНЬ Л. Е. ПИНСКОГО{198}
Неужели никогда?..
Ни в Москве, ни в Белой Церкви?..
Победила немота?
Светы Божии померкли?
Где младенец? Где пророк?
Где заваривальщик чая?
С дымом шурх под потолок,
человечеству вещая.
Говорун и домосед
малышом из пекла вылез.
От огня его бесед
льды московские дымились.
Стукачи свалились с ног,
уцепились брат за братца:
ни один из них не смог
в мудрой вязи разобраться.
Но, пока не внемлет мир
и записывает пленка,
у него в гостях Шекспир,
а глаза, как у ребенка.
Спорит, брызгая слюной.
Я ж без всякого усилья
за больной его спиной
вижу праведные крылья.
Из заснеженного сна,
из чернот лесоповала
детских снов голубизна
к мертвой совести взывала.
Нисходила благодать.
Сам сиял, мальчишка-прадед.
Должников его считать
у дубов листвы не хватит.
Неуживчив и тяжел,
бросив времени перчатку,
это он меня нашел
и пустил в перепечатку.
Помереть ему? Да ну!
Померещилось — и врете.
В волю, в Вечность, в вышину
он уплыл из плена плоти.
От надзора, от молвы,
для духовного веселья.
Это мы скорей мертвы
без надежд на воскресенье.
Вечный долг наш перед ним,
что со временем не тает,
мы с любовью сохраним.
Век проценты насчитает.
Не мудрец он, а юнец
и ни разу не был взрослым,
над лицом его венец
выткан гномом папиросным.
Не осилить ни огнем,
ни решетками, ни бездной
вечной памяти о нем,
вечной жизни повсеместной.
Кто покойник? Боже мой!
Леонид Ефимыч Пинский?
Он живехоньким живой,
с ним полмира в переписке.
ГЕНРИХУ АЛТУНЯНУ{199}
I
Стоит у меня на буфете
над скопищем чашек и блюд
с тоской об утраченном свете
стеклянный ногастик — верблюд.
— Скажи мне, верблюдик стеклянный,
с чего ты горюешь один?
— С того, что пришел я так рано
на праздник твоих именин.
Твой брат, что меня приготовил,
со мною к тебе не пришел.
Еще я от рук его тепел,
да крест его крив и тяжел.
— Мой бедный стеклянный верблюдик,
зачем ты не рад ничему?
— Затем, что любимый твой братик
попал вместо пира в тюрьму.
Меня сотворили двугорбым
накапливать умственный жир,
а он был веселым и гордым
и с детства по-рыцарски жил.
Его от людей оторвали
и потчуют хлебом с водой,
а он, когда вы пировали,
всегда был у вас тамадой.
Какое больное мученье,
какая горбатая ложь,
что вот он сидит в заточенье,
а ты на свободе живешь…
Выслушивать жалобу эту
не к радости и не к добру,
и я подбегаю к буфету,
верблюдика в руки беру.
Каким ты был добрым, верблюдик,
и как оказался суров!..
Затем, что уже не вернуть их,
мне грустно от сказанных слов.
И он своей грусти не прячет,
и стены надолго вберут
те слезы, которыми плачет
стеклянный сиротка — верблюд.
II
У нас, как будто так и надо,
коли не раб ты,
платись семью кругами ада
за каплю правды.
Теперь не скоро в путь обратный
из нети круглой.
Прости, прости мне, лучший брат мой,
прости мне, друг мой.
Придется ль мне о днях ненастных
твой лоб взъерошить?
Где меч твой, рыцарь курам на смех,
где твоя лошадь?
Уж ты-то, гордый, не промямлишь,
что ты не молод.
А праведниками тремя лишь
спасется город!
III
А знать не знаю ничего я:
беда незряча.
Возможно ли, чтоб дом героя
стал домом плача?
Ах, Дон Кихоту много ль счастья
сидеть на месте
и не смешно ли огорчаться,
что он в отъезде?
Отравы мерзостной и гадкой
хлебнув до донца,
ужель мы чаяли, что как-то
все обойдется?
Пока живем, как при Батые,
при свежей крови,
как есть пророки и святые,
так есть герои.
IV
Когда наш облик злом изломан
и ложь нас гложет,
на то и рыцарь, что рабом он
пребыть не может.
Что я рабом, измучась, рухну
в пустыне смрадной,
прости, прости мне, лучший друг мой,
прости мне, брат мой…
Вся горечь выпитой им чары
пойдет в добро нам.
Годны быть лагерные нары
Христовым троном!
Хоть там не больно покемаришь
без муз и граций,
но праведниками тремя лишь
спасется град сей!
ГЕНРИХУ{200}
У всех твоих друзей глаза на мокром месте,
во мне ж ликует дух, восторгом обуян:
в безрыцарственный век ты страж добра и чести —
там горю места нет, где дышит Алтунян.
Подмога бедняку, за слабого заступник,
весельем добрых дел питающий молву, —
в глаза твои взгляну и вещих снов звезду в них,
от счастия смеясь, увижу наяву.
Душе не верит плоть. Москва слезам не верит.
Какой ты деловой, как ты в заботах рьян.
Но горю места нет, где дух Господний веет.
Да, места горю нет, где дышит Алтунян.
Посеявшего свет да не заботит жатва.
О ветер Воркуты, в глаза мои не вей!
И все ж сегодня я грущу о том, что завтра
я буду без тебя в Армении твоей.
Как знать, твоя беда грядущим озарится ль?
Пред подвигом души все знания — пустяк.
В безрыцарственный век воистину ты рыцарь,
чья доблесть и любовь у мира на устах.
А терния, а крест, — ну что ж, коль вышла карма?
Хоть горек наш удел, блаженны наши сны.
Над илом темных лет светло и музыкально
струится и журчит теченье тишины.
В наплывшую струю свои печали сбрось ты,
почувствуй и услышь, как ты не одинок.
К нам сходят по ночам рождественские звезды,
и Вечность нам плетет лазоревый венок.
И пусть твой добрый смех от наших глаз упрятан,
от смеха твоего со света спал туман.
Нет лучшего добра, чем быть герою братом,
и горю места нет, где дышит Алтунян.
ПСКОВ{201}
Темных сил бытия в нас —
в каждом хватит на двух.
Чем униженней явность,
тем возвышенней дух.
Меркнут славы и стоны
на Господних весах.
На земле побежденный
устоит в небесах.
Милый, с небом в соседстве,
город набожных снов,
нам приснившийся в детстве
и отысканный Псков.
В эту глушь, в бездорожье,
в этот северный лес
к людям ангелы Божьи
прилетали с небес.
В русской сказке, в Печорах,
что народ сотворил,
слышен явственный шорох
гармонических крыл…
Дело было под осень.
И охота ж была
Берендеевым осам
шелушить купола!
В просветленье блаженном,
о любви говоря,
пахла снегом и сеном
синева сентября.
Чайки хлопьями пены
опадали, дремля,
на старинные стены
ветряного Кремля.
И, свой каменный ворот
раскрывая навек,
славил Господа город
у слияния рек.
Оттого ль, что с холмов он
устремлен к высоте,
в нем, лесном и холщовом,
столько неба везде.
В нем бродяжливым дебрям
предстоял по утрам
так небесно серебрян
тихой Троицы храм.
Все державные дива
становились мертвей
перед правдой наива
его кротких церквей.
Капли горнего света —
строгих душ образа.
Как не веровать в это,
если видят глаза?
Бог во срубе небесном,
тот, чьих сил не боюсь,
только с вольным и честным
заключает союз.
Хоть порою бывает,
что, исполненный сил,
он зачем-то карает
тех, кого возлюбил…
Этот город как Иов,
и, где ангел летал,
плакать бархатным ивам
по сожженным летам.
Пусть величье простое
неприглядно на вид —
побежденный в исторьи
в небесах устоит.
Мрет в луче благодатном
государева мощь,
и — ладошкой подать нам
до михайловских рощ!
ПСАЛОМ АРМЕНИИ{202}
Ну что тебе Грузия? Хмель да кураж,
приманка для бардов опальных
да весь в кожуре апельсиновой пляж
с луной в обезьяновых пальмах.
Я мог бы, пожалуй, довериться здесь
плетучим абхазским повозкам,
но жирность природы, но жителей спесь…
А ну их к монахам афонским!..
А сбоку Армения — Божья любовь,
в горах сораспятая с Богом,
где боль Его плещет в травинке любой,
где малое помнит о многом.
Судьбой моей правит не тост тамады —
обитель трудов неустанных
контрастом тем пальмам, — а рос там один
колючий пустынный кустарник.
И камень валялся, и пламень сиял, —
и Ноем в кизиловом зное,
ни разу не видев, я сразу узнал
обещанное и родное.
О, где бы я ни был, душа моя там,
в краю потаенном и грозном,
где, брат непригретый, бродил Мандельштам
и душу вынашивал Гроссман.
Там плоть и материя щедро царят,
там женственность не деревянна,
там беловенечный плывет Арарат
близ алчущих глаз Еревана.
Там можно обжечься о розовый туф
и, как по делам ни спеши мы,
на место ожога минуту подув,
часами смотреть на вершины.
Там брата Севана светла синева,
где вера свой парус расправит, —
а что за слова! Не Саят ли Нова
влюбленность и праведность славит?
Там в гору, все в гору мой путь не тяжел, —
причастием к вечности полнясь,
не брезгуя бытом, на пиршестве сел
библейская пишется повесть.
Там жизнь мировая согласна с мирской,
и дальнее плачет о близком,
и радости праздник пронизан тоской
и жертвенной кровью обрызган.
Там я, удостоенный вести благой,
там я, просветленный и тихий,
узнал, что такое добро и покой
у желтых костров облепихи…
Не быть мне от времени навеселе,
и родина мне не защита —
я верен по гроб камнегрудой земле
орешника и геноцида.
де сладостен сердцу отказ от правот,
и дух, что горел и метался,
в любви и раскаянье к небу плывет
с певучей мольбой Комитаса…
Что жизнь наша, брат? Туесок для сует —
и не было б доли унылей,
но вышней трагедии правда и свет
ее, как ребенка, омыли.
ВТОРОЙ ПСАЛОМ АРМЕНИИ{203}
Армения, — руша камения с гор
знамением скорбных начал, —
прости мне, что я о тебе до сих пор
еще ничего не сказал.
Армения, горе твое от ума,
ты — боли еврейской двойник, —
я сдуну с тебя облака и туман,
я пил из фонтанов твоих.
Ты храмы рубила в горах без дорог
и, радуясь вышним дарам,
соседям лихим не в укор, а в урок
воздвигла Матенадаран.
Я был на Севане, я видел Гарни,
я ставил в Гегарде свечу, —
Армения, Бог твою душу храни,
я быть твоим сыном хочу.
Я в жизни и в муке твой путь повторю, —
и так ли вина уж тяжка,
что я не привел к твоему алтарю
ни агнушка, ни петушка?
Мужайся, мой разум, и, дух, уносись
туда, где, в сиянье таим,
как будто из света отлитый Масис
царит перед взором моим!
Но как я скажу про возлюбленный ад,
начала свяжу и концы?
Раскроется ль в каменном звоне цикад
молитвенник Нарекаци?
До речи ли тут, о веков череда?
Ты кровью небес не дразни,
но дай мне заплакать, чтоб мир зарыдал
о мраке турецкой резни.
Меж воронов черных я счастлив, что бел,
что мучусь юдолью земной,
что лучшее слово мое о тебе
еще остается за мной.
ТРЕТИЙ ПСАЛОМ АРМЕНИИ{204}
У самого неба, в краю, чей окраинный свет
любовь мою к миру священно венчает и множит,
есть памятник горю — и странный его силуэт
раздумье сулит и нигде повториться не может.
Подъем к нему долог, как приготовленье души,
им Шествуют тени, что были безвинно убиты,
в их тихой молитве умолкли ума мятежи
и чувством вины уничтожено чувство обиды.
Не в праздничном блеске и не в суете площадной
является взорам, забывшим про казни да войны,
тот памятник людям, убитым за то лишь одно,
что были армяне, — и этого было довольно.
Из братских молчаний и в скорби склоненных камней,
из огнища веры и реквиема Комитаса
он сложен народом, в ком сердце рассудка умней,
чьи тонкие свечи в обугленном храме дымятся.
Есть памятник горю в излюбленной Богом стране,
где зреют гранаты и кроткие овцы пасутся, —
он дорог народу и тем он дороже втройне,
что многих святынь не дано ни узреть, ни коснуться.
Во славу гордыне я сроду стихов не писал,
для вещего слова мучений своих маловато, —
но сердце-то знает о том, как горька небесам
земная разлука Армении и Арарата.
О век мой подсудный, в лицо мое кровью плесни!
Зернистая тяжесть согнулась под злом стародавним,
и плачет над жертвами той беззабвенной резни
поющее пламя, колеблемое состраданьем.
Какая судьба, что не здесь я родился! А то б
и мне в этот час, ослепленному вестью печальной,
как древнему Ною, почудился новый потоп
и белые чайки над высью ковчегопричальной.
ЧЕТВЕРТЫЙ ПСАЛОМ АРМЕНИИ[5]{205}
Я всем гонимым брат,
в душе моей нирвана,
когда на Арарат
смотрю из Еревана,
когда из глубока
верблюжьим караваном
святые облака
плывут над Ереваном,
и, бренное тесня
трагедией исхода,
мой мозг сечет резня
пятнадцатого года,
а добрый ишачок,
такой родноволосый,
прильнув ко мне, со щек
облизывает слезы…
О рвение любви,
я вечный твой ребенок, —
Армения, плыви
в глазах моих влюбленных!
Устав от маеты,
в куточек закопайся, —
отверженная ты
сиротка Закавказья.
Но хоть судьба бродяг
не перестала влечь нас,
нигде на свете так
не чувствуется Вечность.
Рождая в мире тишь,
неслыханную сердцем,
ты воздухом летишь
к своим единоверцам.
Как будто бы с луны,
очам даруя чары,
где в мире не славны
армянские хачкары?..
Я врат не отопру
ни умыслу, ни силе:
твои меня добру
ущелия учили.
Листая твой словарь
взволнованно и рьяно,
я в жизни не сорвал
плода в садах Сарьяна.
Блаженному служа
и в каменное канув,
живительно свежа
вода твоих фонтанов.
О, я б не объяснил,
прибегнув к многословью,
как хочется весь мир
обнять твоей любовью!..
Когда ж друзей семья
зовет приезжих в гости,
нет более, чем я,
свободного от злости.
Товарищ Степанян!
Не связанный обетом,
я нынче буду пьян —
и не тужу об этом.
Я не закоренел
в серьезности медвежьей
и пью за Карине,
не будучи невежей.
А на обед очаг
уже готовит праздник,
и Наапет Кучак
стихами сердце дразнит.
9 ЯНВАРЯ 1983 ГОДА{206}
Когда мне стукнуло шестьдесят
Пришли, пришли пропойцы-кемари,
не отчурались, черти, недосыпа!
На грядках дней пропольщики мои,
какое вам небесное спасибо!
Кто как сумел у чарочки присел, —
пои вас Бог, друзья-жизнепродувцы!
Пока далек положенный предел,
лета летят, а ниточки прядутся.
Спасибо всем, кто в этот час со мной,
кого я смог, кого не смог собрать я!
Ох, как я полон жизнию земной!
В ней нет чужих, все — сестры лишь да братья.
Чем тоньше нить, тем тише и светлей
в душе моей, и вся она — любовь к вам.
Ишь, летом вишен падает с ветвей,
а места нет счетам и недомолвкам.
Спасибо, жизнь, за то, что прожита,
за этот свет, что вы зовете «старость»!
Смотрю в себя: где горечь, где вражда?
И следу нет. Одна любовь осталась.
Ишь, воробьишки прыгают у ног, —
на свете роль нисколько не мала их.
Моя ж душа — воробышек и Бог,
и дуб в лесу, и Будда в Гималаях.
Мне в жизни сей хватало на харчи,
а по лихве печалиться не стану.
Простите все, кого я огорчил,
с кем в ссоре был, кого обидел спьяну.
Простите все, кого я не узнал, —
не из гордыни или басурманства.
Моя ж родня наполовину с нар,
да я и сам оттолева сорвался.
Окажем честь зеленому вину,
его еще останется на случай.
Прости мой долг, прости мою вину,
мой лучший брат за проволкой колючей.
За тыщу верст — пустили бы — пешком
прибрел к тебе копытами босыми.
Прости меня, барашек с петушком,
чью кровь опять прольют в Эчмиадзине.
Простите все. Мне высь моя к лицу.
С нее теперь ни на вершок не сниду.
Какое счастье — к отчему крыльцу
нести в себе вину, а не обиду.
Спасибо всем, случайным, как и я.
Я вас люблю светло и покаянно.
Как хорошо вернуться в океан
искавшей смысла капле океана.
Я высший дар несу не расплескав,
хоть и кажусь иному дурачиной.
Мне и теперь любая боль близка,
но все небесней свет неомрачимый.
Когда душа совсем уйдет от вас,
любовью к вам полна и осиянна,
мой грешный прах оплачет Комитас
в стране камней у синего Севана.
ЛЕСЯ В ЯЛТЕ{207}
Солгали греки, заповедав
«здоровый дух в здоровом теле», —
а в мире не было поэтов,
покамест люди не болели.
И затвердившим с детства сгусток
и перл языческой морали
где брать пророков златоустых,
когда б страдальцы не хворали…
На краткий срок на диких скалах,
горюя осторонь от мира,
сложила два крыла усталых
над синью волн сестра Шекспира —
больная женщина с Волыни.
Ей даль нашлась и отозвалась,
где горечь хвои и полыни
с морскою музыкой мешалась…
В Крыму ютились караимы,
заблуды-греки и татары,
туда ж слетались побратимы
на звон студенческой гитары.
И дальний гул казацкой славы,
как будто дань добру и силе,
его кустарники и травы
в своем дыханье доносили.
С зеленых гор сползала дымка,
сияло море отовсюду,
и чутко Леся Украинка
сквозь боль прислушивалась к чуду.
В краю, где Пушкин и Мицкевич
лучились музыкой недавней,
ее застенчивая девичь
цветком таинственным цвела в ней.
Распятая туберкулезом,
от волн ждала добра и лада
и кротко радовалась лозам
налившегося винограда.
Но, как цветы на сеновале,
у чатырдагского подножья
заброшенная сыновьями
лежала слава запорожья.
И сердце задыхалось в полночь,
рвалось на родину немую:
«Зачем зовешь меня на помощь?
Тебя ль в судьбе моей миную?
Я тем горжусь, интеллигентка,
что с детства девочкой степною
живу заветами Шевченко
и кровной близостью с тобою».
В ней пел напев, как степь, широкий,
стих возникал, певуч и четок.
В любви рождались эти строки,
и только любящий прочтет их.