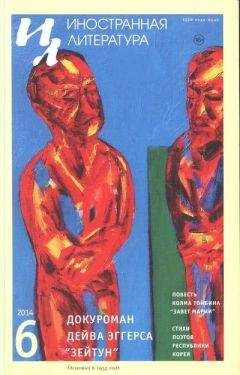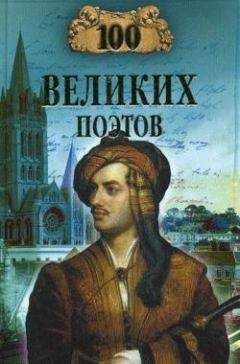Бернарт де Вентадорн - Песни
Тайна жизненности весеннего запева у Вентадорна – не в предметной убедительности его описаний. Она – в эмоциональной убедительности; не в отвлеченном параллелизме, а в сопричастии поэта изображаемой им картине весны с первых же строк кансоны. Когда в песне «Оделась дубрава листвой…» (VI) он восклицает:
И сам я как будто цвету
В этом цветущем апреле, —
или же в песне «Цветут сады, луга зазеленели…» (VII), замечает:
Цвету и я – ответною весною, —
ботанические уточнения в картинках весенней природы только повредили бы художественному образу и весны, и лирического героя, нарушая их слиянность.
Слиянность лирического героя с весенней природой запева чувствуется и при упоминании радостной соловьиной песни, по поводу которой отверженный Донною поэт все же восклицает в стихотворении «Меж деревьев зазвенели…» (XXIV):
Греет радость и чужая!
А в песне «Люблю на жаворонка взлет…» (XXXI) жаворонку не угрожает опасность остаться лишь обычным аксессуаром весны, такая угроза исчезает благодаря страстному признанию трубадура:
Ах, завидую ему,
Когда гляжу под облака!
Как тесно сердцу моему,
Как эта грудь ему узка!
Но уж полное слияние лирического героя с весенней природой происходит в песне «У любви есть дар высокий…» (IV), где не весна пробуждает любовь, а, напротив, любовь пробуждает весну:
У любви есть дар высокий,
Колдовская сила,
Что зимой, в мороз жестокий,
Мне цветы взрастила.
Эта обратная связь, устанавливаемая поэтом-мифотворцем в обычном сопоставлении: весна – любовь, особенно наглядно проявляет ту творческую свободу, с какой трактует Бернарт одну из наиболее закрепившихся традиционных жанровых особенностей кансоны.
Еще больше творческой свободы проявляет трубадур в трактовке основной темы его песен – куртуазной любви. В своем любопытном стихотворении «Сама Любовь приказ дает…» трубадур начала XIII в. Дауде де Прадас, задавшись целью описать различные категории любви, характеризует в их числе и любовь куртуазную, носившую, по терминологии трубадуров, название высокой, или возвышенной, или чистой любви:
Закон Любви нарушит тот,
Кто Донну для себя избрал
И овладеть ей возжелал,
Сведя избранницу с высот
У Донны жду я утешений
От самых скромных награждений,
Но шнур иль перстень, уверяю,
На трон кастильский не сменяю,
А поцелуй один-другой —
Подарок самый дорогой!
Бернарт в качестве куртуазного поэта не раз признает незыблемость этого закона Не раз говорит он о своем преклонении перед Донной, смиренно ждет от нее хоть ласкового взгляда, хоть милостивого слова, объявляет себя ее слугой, пленником, вассалом (конечно, последнее уподобление не следует понимать буквально, к чему порой наблюдалась наивно социлогическая тенденция у некоторых провансалистов, – иначе как же быть со «слугой» и «пленником»?). Он готов подчиниться требованиям куртуазии, но не без колебаний, не без внутренней борьбы. В кансонах Бернарта путь лирического героя к куртуазному совершенству далеко не так прост. Лирический герой Бернарта, готовый служить куртуазной любви, с восторгом отдаться ей, временами проявляет строптивость – возмущается ее суровыми требованиями, даже нарушает их. Но этот далеко не образцовый лирический герой как раз и придает внутреннему сюжету в кансонах Бернарта особый моральный смысл, носительницей которого была куртуазия (конечно, в своем высшем, а не формальном значении).
Блюстители куртуазии могли бы ужаснуться, услышь они не из-за незримой рампы песенной поэзии, а от своего реального собеседника пожелание, которое высказывает Бернарт де Вентадорн, якобы беседуя со своим другом в песне-диалоге «Мой славный Бернарт, неужель…» (XXXII):
– Эх, Пенре, вот стали бы вдруг
Любви у нас донны искать,
Чтоб нам их владыками стать
Из прежних безропотных слуг!
Но в общем контексте диалога (так называемой фиктивной тенсоны, потому что диалог-то ведется с самим собою) это чудовищно дерзкое с точки зрения формальной куртуазии высказывание лишь свидетельствует о силе любви отвергнутого влюбленного, любви до безумия:
Пейре, мой жребий не сладок,
Коварную мне не забыть, —
Так как же безумные не быть!
А культ любви, самозабвенной до безумия, – одна из особенностей куртуазного кодекса, притом основная (куртуазия требовала соблюдать «меру» не в любви, а лишь в ее внешних проявлениях, т. е. быть тактичным).
Если в упомянутом диалоге лирический герой пытается поколебать высокий пьедестал донны на словах, грешит против куртуазной любви только в своих помыслах, то в песне «Цветут сады, луга зазеленели…» (VII) он совершает такое грехопадение уже не на словах и с горечью в этом признается:
Да, для другой, ее узнавши еле,
Я кинул ту, что столь нежна со мною.
Это уже тягчайший грех в отношении к куртуазии, потому что касается не, так сказать, «церемониала» любовных объяснений, а самой любви. Однако сердечное раскаяние изменника придает особую искренность и его смирению перед обиженной, которой он готов отныне посвящать все свои думы, проявляя перед ней покорность и верность вассала.
Иногда, впрочем, измена не вызывает в изменившем раскаяния. В песне «Я был любовью одержим…» (XXX) он так и не возвращается к своей прежней донне, убедившись, что ошибался в ней, что она оскорбляла его достоинство и песенный дар, – об этом говорят его прощальные слова донне, носящей сеньял (поэтическое прозвище) Отрада Глаз:
Отрада Глаз, не дал известь
Вам сам Господь мой дар и честь —
Новой песней сердце пьяно!
Так, в сущности, высокой любви лирический герой здесь не изменяет, ибо, как говорит Вентадорн в песне «Сказать ли правду вам?» (XII), любовь осуществляет свое могущество при условии, «коль у двоих – одна душа».
Отказавшись, таким образом, от превращения своего лирического героя в примерного последователя куртуазии, Вентадорн не наносит урона куртуазному кодексу, а лишь стремится очистить его от шелухи условностей, еще возвеличивая куртуазную любовь, придавая ей больше человечности – и тем самым моральной притягательности. В понятии куртуазной любви он отдает господство самой любви как таковой, а куртуазность в ней хотя и признает, но отодвигает на второй план.
В песнях Бернарта любовь лирического героя обретает столь спасительную жизненность еще и из-за того, что ему не дано ограничиться созерцанием своей Донны и воспеванием ее достоинств, но приходится иметь дело и с опасностью со стороны соперников, а чаще всего – завистливых клеветников, так называемых «наветчиков», которые довольно часто изображаются в лирике трубадуров. Необходимость защищать свою любовь от наветчиков стала традиционным, хотя и довольно частным мотивом в лирике трубадуров. В поэзии Бернарта этот традиционный мотив тоже обретает новое поэтическое рождение. Трубадур не ограничивается умением молчать о своей любви, которое предписывается куртуазней, – он прибегает к различным уловкам, чтобы укрыть свою любовь от слишком любопытных глаз и ушей. То он веселится напоказ, чтобы никто не заметил его любовных страданий. То ударяется во всякие россказни, стремясь направить подозрения наветчиков по ложному пути. То уклоняется от нежелательного любопытства, тайком пробираясь к своей Донне. И уж непременно, при каждом своем упоминании о наветчиках, всячески поносит их, высмеивает, проклинает. Даже высказывает звучащее несколько юмористически сожаление, что господь Бог не отметил это зловредное племя особою метой – рогами! А, вместе с тем он их боится, не решается выступить против них в открытую, что сулило бы опасность для чести Донны. Лишь иногда, истомленный разлукой с Донною, он срывается и даже Донну призывает забыть всякие страхи, так как осторожность дается им слишком дорого, лишая их радости свиданий. Все эти мотивы любовной тактики, вплетаясь в основной лирический сюжет, тоже способствуют большей жизненной убедительности лирического героя, еще больше освобождают его образ от того, что французы до сих пор иронически называют «трубадурством» (genre troubadour).
Свобода от «трубадурства» проявляется у Бернарта не только в изображении любви со стороны ее искушений или же повседневных забот, невзгод, опасностей и испытаний, но и в довольно редком у трубадуров юморе. Так, в одной из песен поэт делится со слушателями секретом, как он обуздывает свою разгневанную Донну, невозмутимо отмалчиваясь на самые яростные ее упреки, в результате чего Донна, поостыв и умиленная его кротостью, сама начинает чувствовать себя виноватой и старается искупить свою вину усиленной нежностью. В другой песне поэт, узнав, что у него появился соперник, тоже обнаруживая покладистость, не менее лукавую, заявляет Донне: