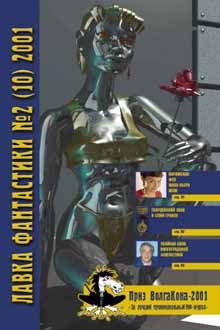Игорь Северянин - Том 3. Менестрель. Поэмы
Часть II
Моя сестра единственная Зоя
Скончалась девятьсот седьмой весною,
Молниеносным церебросникальным
Смертельным менингитом сражена.
Ей было только тридцать два, и эта
Внезапная нелепая кончина
Произвела большое впечатленье
На всю семью и всех знакомых наших,
Ее любивших искренне. Сраженный
Несчастьем, я забыл совсем и думать,
Что умерла она без завещанья,
И потому наследства я лишался:
Дом перешел к двоюродному брату,
Имущество ведь было родовое.
Мы с мамой переехали немедля
В излюбленную Гатчину на дачу.
Светлейшая грузинская княгиня,
Рожденная немецкая графиня,
Две комнаты сдала в своей квартире.
Она была художницей. Любила
Искусство, но была «toquee» немного.
Притом нередко сильно выпивала.
Лет сорока сановника вдовою
Оставшись, замкнуто, уединенно
На пенсии жила. Ее рассказы,
Исполненные образности, дали
Впоследствии мне тему для поэзы.
Она ко мне весьма благоволила.
И часто с нею сидя на балконе,
Беседовали мы до поздней ночи.
Но беспокойный княжеский характер
И постоянные ее причуды
На нервы наши, Зоечкиной смертью
Расшатанные, действовали скверно,
И через две недели, вняв советам
Знакомого профессора, мы с мамой
Себе другую дачу подыскали,
Покинув ее сумрачную Светлость.
Тогда к нам часто приезжали гости.
Профессор пенья, древний киевлянин,
Противник существующей системы
Горизонтальной нотной, реформатор
С проектом вертикальных начертаний,
Фанатик проводимой им идеи;
И штаба генерального полковник,
Спирит и мистик, Зоечку любивший,
Так безнадежно в культ воздвигший имя
Ее, к нам приезжал еженедельно;
Затем подруга Зои, институтка,
Большая меломанка и лингвистка,
Эстетка Александра Алексанна,
Моих прогулок спутница, природу
Красиво понимающая, тоже
Гостила в это лето две недели.
Однажды с ней, направясь к Приорату,
Мы шли по городу. У госпиталя
Дворцового я встретил даму в черном,
Которая, завидев в отдаленьи
Меня, внезапно круто повернула
И прочь пошла знакомою походкой;
Узнал я в даме Злату. Дорогая,
Что побудило новое страданье
Мне причинить? Зачем ты отвернулась
От любящего сердца? Ах, в то время
Ты мне была особенно желанна:
С кончиной Зои круг друзей по духу
Вновь сузился, и ты была так кстати.
Я чуткой Александре Алексанне,
Участливо спросившей о печали,
Поведал скорбное повествованье
Нарушенного встречей с Диной счастья.
Над озером мы долго с ней сидели.
И гладила она мне мягко руки,
И траур по моей сестре носимый
Так свято ею, одухотворенный
Прелестный тонкий профиль оттеняя
И делая лицо ее бледнее,
Являл печали олицетвореньем
Изысканную строгую фигуру.
Она меня любила, мне казалось
Уже давно, и, может быть, признанья
Мои ей тоже причинили боль.
До октября мы прожили на даче
И с камеристкой фрейлины царицы,
С шатенкой Лизой, девушкою стройной,
Живущей рядом с нами, как-то ночью
У нас в саду я встретился в предгрозье
И познакомился непринужденно.
Мы стали с ней друзья. Она в минуту
Свободную шла в сад ко мне, и часто
В беседах проводили мы все ночи.
Она была тогда уже невестой,
Но чувствовала сильное влеченье
Ко мне и дружбу. Даже целовала
Меня не раз, но чистым поцелуем.
И никогда у нас не возникало
Предположенья сблизиться телесно.
Я после приезжал к ней даже в гости
И с ней встречаться было мне отрадно:
Она была хорошим человеком.
Я получил письмо по почте. Зина,
Сестра певички Дины, та, что в лодке,
На камень севшей, девочкой-подростком
Была мне обозначена, свиданье
На набережной, у Канавки Зимней,
Мне назначала. Жил я одиноким,
Ведя отшельнический образ жизни,
Лишь в опере по-прежнему бывая.
Но, новым сердцем заинтересован,
Пошел охотно выслушать мотивы,
В нем ныне возникающие смутно.
В семнадцать лет она была блондинкой
Миниатюрной, полной, не лишенной
Пленительности. Очи голубые
Смотрели так безгрешно и открыто.
Ноябрьский снежный вечер над Невою
Уже сгустил свой лиловатый сумрак.
И возвещали дальние куранты
Грядущий час вечернего гулянья;
Меня остановила Зина первой, —
Рассеянно чуть не прошел я мимо.
Мы прогуляли с нею целый вечер,
И от нее я выслушал признанья
В любви давнишней, «с первого же взгляда»
Она жила одна у старой тетки,
Вдовы какого-то там адвоката.
Мне Зина приглянулась, и тогда же
Я предложил ей переехать в Пудость.
Она охотно сразу согласилась.
И вскоре мы поехали в деревню,
Где Александр Степаныч, тот крестьянин,
Что строил мне мою «Принцессу Грезу»,
В своей избе возвел перегородку
(Большая дача не имела печек),
И Зина поселилась там в уюте
И теплоте, а я из Петербурга
В неделю раза два к ней начал ездить.
Любил ли я ту девочку? Конечно.
Я всех любил по-своему. И как бы
Я мог брать женщин без любви взаимной?
Единственной любовью и бессмертной,
И неизменной, я любил лишь Злату,
И к ней любовь — с другими нет сравнений.
Но ведь из этого не вытекает,
Как следствие, что я остался верен
В отсталом смысле лишь одной, и сердце
Свое живое умерщвлял ненужным
Ни мне, ни Злате воздержаньем страсти
И нежности. Без женственных касаний
Моя душа художника зачахла б.
Мне с Зиночкой уютно было: томной
Она окутала меня любовью.
И я любил ленивые движенья
И теплоту ее объятий сильных.
Она была земною, равнодушной
К искусству и мещанкой в полном смысле.
Но все же с нею изредка приятно
Встречаться было мне.
Полковник Дашков,
Спирит и мистик, Фофанова стансы
Одни, любимые моей сестрою,
Напомнил невзначай и предложил мне
Поехать, познакомиться с поэтом,
В то время жившим в Гатчине. Мы к Зине
Заехали позавтракать, с собою
Слеурова корзину взяв с мадерой
И разными закусками. Оттуда
Пошли мы лесом в сумерки к поэту.
…Шлагбаум. Рельсы. Старая часовня.
Ноябрьский вечер. Звезды и луна.
Навстречу мужичок в тулупе теплом,
Дубленом, в валенках, в лохматой шапке.
— «Не знаешь ли, любезный, где живет тут
Писатель Фофанов?» — Проникновенный
Взгляд мужичка на нас из-под очков
И еле уловимая усмешка:
«Я — Фофанов»…
О, Константин Михалыч!
Да разве вас забыть я в состояньи?
Ведь вы такая прелесть, в самом деле! —
Герой, пророк и русский мужичок,
И с головы до ног поэт великий!
Герой вы потому, что не страшились
«Великих мира бренного сего»,
И хлесткие, и злые эпиграммы
Говаривали часто в лица людям,
Стоявшим у кормила черной власти.
Пророк Вы, потому, что предсказали
Мне будущность мою, ее предвидя,
Не ошибаясь в людях, с кем случалось
Встречаться вам на жизненном пути.
И потому Вы мужичок российский,
Что, им родясь, гордясь происхожденьем
Своим, Вы все условности отвергли
И своему мужицкому наряду
Остались верны в простоте душевной.
Поэт Вы потому, что Вы… поэт!
Он нас повел к себе, где познакомил
С женой и сыном Костей. Этот мальчик
Впоследствии Олимпов, футурист,
Сошел с ума, когда отец скончался.
Пункт — мания величья. Вырожденцем
Он несомненно был. Его мне жаль.
Детей всех было девять. Я их знаю.
Мне больше нечего о них сказать.
Жена поэта Лидья Константинна,
Седая в сорок лет, производила
Тяжелое, больное впечатленье:
Она пила запоем и держала
Себя совсем безнравственно. Не должен
Я это скрыть — совсем наоборот.
В причинах, право, трудно разобраться.
То ли поэт споил подругу, — то ли
Она его — судить об этом трудно.
Несчастная семь раз с ума сходила.
Восторженно приветствовал Поэта
Во мне экстазный Фофанов! И в первый
Знакомства день мне посвятил акростих.
Четыре года с этих пор мы были
Знакомы с ним. Его я видел разным:
Застенчивым, когда бывал он трезвым,
Нередко гениально вдохновленным,
В минуты опьяненья невозможным:
И наглым, и воинственным, и зверским.
Но все же доброта его бесспорна,
Талантливость ярка и разум ясен.
Он написал мне двадцать поевящений,
Гостил по дням, не пил, случалось, вовсе,
Причем дырой зияла эта трезвость
На нашей жизни, и ее чинили
Надежною заплатой опьяненья.
Чинили мы, как истые поэты,
Ухабно карусельные попойки.
По-прежнему меня тянуло к Злате,
По-прежнему исполнен был я ею,
О чем твердят весьма красноречиво
Того периода мои поэзы.
И вот, не в силах сдерживаться больше,
Попал я как-то снова к Тимофею,
Спросить его о ней мне захотелось,
Прочувствовать ушедшее былое,
Возникшее у дворника в подвале.
Знакомая прекрасно обстановка
Отчаянье такое всколыхнула
Во мне, что стал я пить, и в результате
Допился до потери представленья,
Где я, зачем и что со мной… В разгаре
Попойки (видно, было так угодно
Судьбе моей) раскрылась дверь и Злата
Предстала перед нами на пороге.
Я смутно понимал тогда; однако
От встречи получилось впечатленье
Тяжелое: любимая, сначала
Застывшая безмолвно и с тоскою
Смотревшая на оргию, вдруг резко
Какое-то ударное по сердцу
В негодованьи бросила мне слово
И скрылась, хлопнув дверью возмущенно.
Та встреча предпоследней оказалась.
Спустя семь лет мы встретились в последний,
Последний раз — на несколько минут.
Опять весна, вторая после счастья,
Испытанного с вечно дорогой.
Опять весна пришла, и сердце снова
Упилось пламным солнечным вином.
Опять сморчков коричневые губки
Набухли на опушке лесовой.
Опять подснежники заголубели,
И вся земля опять пошла вверх дном.
С Перунчиком, поэтом-анархистом,
Моих же лет, с которым я случайно
У Фофанова сблизился весною,
Уехали мы в Пудость, где избушку
На курьих ножках сняв, ловили рыбу,
Мечты, стихи и девок деревенских.
Еще в начале года я расстался
С любовницею третьей: поведенье
Ее меня принудило. Хозяин
Избы такие сообщил мне вещи,
Что поступить иначе я не мог бы.
Кума Матрена (с нею мы крестили
У лодочного мастера ребенка)
По вечерам в избу к нам забегала —
Поговорить, попеть и посмеяться.
Исполнилось ей только восемнадцать.
Она имела средний рост, фигурой
Была полна немного, но красивей
Матреши — девки не было в деревне.
Я называл ее Предгрозей: имя
Я произвел от душного: «предгрозье».
Она томила, как перед грозою
Томит нас воздух. Всей душой простою
Она меня любила, и не мудрой
Была любовь моей ингерманландки.
Два лета мы любились. Много песен
О ней пропето, много поцелуев
Друг другу нами отдано взаимно.
Ах, хороша была кума Матреша!
Андрей Антоныч, краснощекий мельник,
Катюлиньку любовницей имевший,
Печальную и скромную простушку,
Наш постоянный ярый собутыльник,
Вдруг воспылал к моей Предгрозе страстью,
Ответной в девушке не возбуждая.
И как-то раз, во время запоздалой
На мельнице пирушки нашей, вздумал
Меня убить из ревности, огромным
Ножом взмахнул над головой моею.
Перунчик, благородный мой приятель,
Взревел, как тигр, и мельника за плечи
Схватив, швырнул под стол, тем спас мне жизнь.
С утра чем свет пришел Андрей Антоныч
В избушку к нам с мольбою о прощеньи.
И я, его отлично понимая,
Сердиться и не думал. В этот вечер
Веселую справляли мировую.
И с той поры не трогал он Предгрози,
Ко мне питая искреннюю дружбу.
Хорошее, читатель, было время!
Свободными мы были удальцами,
И наши юношеские проказы
Отмечены в моих воспоминаньях
Отвагой, благородством, прямодушьем.
Прошло еще два года. Много женщин
Дарили мне любовь свою и нежность:
Annete, похожая на гейшу; Olli,
Эстоночка с эгреткой; Карменсита,
Мучительница сладостная; Флёртон,
Щекочущая мозг синьора,
И Шура с изумленными глазами,
И Паня с оскорбленными устами,
И Лапочка, и Дунь, и Maricon…
Достаточно. Довольно. Дальше, дальше…
Все это только сладостные миги.
Все это пусто, кратко и мишурно.
Не настоящее какое это.
Я вспоминаю день иной, сыгравший
Большую роль в моей дальнейшей жизни,
Я вспоминаю день прихода Лизы,
Сестры моей боготворимой Златы,
Я вспоминаю день начала с нею
Значительного властного романа.
Она пришла семнадцатой своею
Невинной и мечтательной весною.
Она пришла, как раненая серна,
В своей любви нашедшая фиаско.
Она пришла доверчиво, порывно,
Влекомая ко мне интуитивно;
Она пришла, как девушки приходят
В храм Божий или к Божьему поэту.
Князь Русов, кирасир императрицы,
Мисс Лиль полгода тонко развращая,
Обратного добился результата:
Он пробудил к себе в ней обожанье.
Когда ж ему наскучила малютка,
Жениться вздумал на аристократке
И с Лизою порвал, как подобает
Вельможе, очень грубо, очень резко.
Возмущена сиятельным коварством,
Она, недолго думая, в порыве
Негодованья, ранила кинжалом
Князька в плечо в его же кабинете.
Но тусклый князь здесь поступил, как рыцарь:
Замяв пустячный инцидент с девчонкой,
Он просто приказал лакею Лизе
Надеть пальто и проводить до двери.
И вот пришла она ко мне и, плача,
Мне рассказала о своей обиде,
О поруганьи девственного чувства.
Она пришла, как раненая серна,
Она пришла, как девушки приходят
В храм Божий или к Божьему поэту.
— «Я лишь двоих люблю на этом свете, —
Сказала Лиза просто — Вас и князя.
Вы мне всегда, еще в эпоху Златы,
Казались небывалой в мире болью».
Из слов ее узнал, что Злата замуж
За видного чиновника из банка
Назад три года вышла и имеет
Уже ребенка: девочку Тамару.
Я был сражен: она ведь этим шагом
Со мной кончала навсегда. Жестокость
Ее мне причинила снова муки.
Последняя растаяла надежда,
Пусть смутная, на наше примиренье,
На съединенье в будущем, пусть — дальнем.
И странным мне казалось: Злата, чище,
Добрей кого мне не встречалось в жизни,
Вдруг эта Злата, благостная Злата,
Способна на жестокости. Как странно!
Я в тот раз, как мог, успокоил Лизу
И всматриваясь в личико, с сестрою,
С ее сестрой, мне причинившей горе,
Нашел большое сходство. Послужило
То обстоятельство причиной — новой
Глубокой связи с девушкою Лизой.
Мила мисс Лиль в английском синем платье,
Фигуру облегающем вплотную,
Когда она идет со мной по парку
С вокзала, где меня встречала.
Мила мисс Лиль с пикантной черной мушкой
У верхней губки; маленькой головкой
Каштановой качая грациозно.
Высокая и гибкая, вниманье
Всеобщее невольно привлекает.
Мила мисс Лиль, идущая со стэком
В бледнолимонной лайковой перчатке,
Картавящая щебетно, как птичка,
Кокетливые, глупенькие фразки.
Мила мисс Лиль в раздумии тяжелом,
Когда, отбросив глупости, так ясно
И глубоко умеет видеть жизнь.
«Мой милый друг, пожалуйста, немного
Побудь один и поскучай — я вскоре
Вернусь: мне надо экстренно работу
Снести», — стрекочет девушка и, шляпу
Надев, сбегает с лестницы. Смеются
За дверью голоса, и оживленно
Две незнакомки в комнату вбегают,
Конфузятся, меня завидев. Робко
Одна из них, постарше, жмется к двери.
Другая… Но ведь это ж упоенье!
Сиреневый шнурок небрежно брошен
На тонкую точеную головку.
Ее прическа с правильным пробором
В ней выдает шатенку; брови стрелкой
Лицу, так, в меру, долю изумленья
Сурово придают; в лице тончайшем
Ирония и страстность; ноздри горды.
— «Ушла надолго Лиза?» — мне казалось,
Спросила не она, а жемчуг зубок,
Так ослепительно они блеснули.
— «Нет, вскоре будет, Вы, mesdemoiselles,
Любезны будьте сесть» — «Pardon, я дама.
А вот подруга — барышня. Садиться
Не станем мы: в такую ли погоду
По комнатам сидеть? Мы в парк стремимся,
А Вы, пожалуйста, ей передайте…
Нет, впрочем, нет: гораздо лучше, право,
Чем здесь скучать Вам одному без книги,
На полчаса пройтись — вернемся вместе» —
Я был в восторге от ее отваги
(Сказали бы «нахальство» фарисеи!)
И мы втроем ушли. Я не вернулся
В тот день к мисс Лиль. Я не пришел ни завтра,
Ни через десять дней. Лишь через месяц
Мы увидались вновь, чтоб не расстаться
Семь полнолуний. И виной — Инстасса.
Да, мы ушли втроем. Но день весенний
Был так пригож, был так горяч и золот
И у Инстассы под сиренью глаза
Блестели так приманчиво и важно
Большие темно-серые соблазны
И так интимно прижимала руку
Мою она, что мы… вдвоем остались.
Подруга поняла, что нам помехой
Является она; на перекрестке
Ближайшем поклонилась и исчезла.
А мы пошли не в парк, а в чащу леса,
Откуда целый вечер, ночь и утро
Дороги не могли найти обратной:
Мешала страсть, затмившая глаза,
Дня через два приехала Инстасса
Ко мне на час, и ровно три недели,
Захваченная страстью, прогостила.
Была ль то жизнь? Я думаю скорее
Ее назвать сплошным дурманом можно:
Болели губы от лобзаний страстных,
Искусанные в кровь; бледнели лица
И не работал мозг в изнеможеньи.
Но ревность Инсты так была несносна,
И так дика, и так невероятна,
Что я устроил бунт, и мы расстались
Молниеносно с пламенной Инстассой.
Впоследствии, однако, с ней друзьями
Встречались мы, когда на содержанье
Ее взял князь… Атракцион Цимлянский!
Я отдохнуть хотел от связи с Инстой
И написал покаянные строки
Своей мисс Лиль. Смущенно улыбаясь,
В мой дом вошла незлобивая Лиза.
Великий Римский-Корсаков и Врубель,
И Фофанов скончались в эти годы.
И благовестом звонов погребальных
Гудели необъятые пространства.
Три гения, как светочи, погасли.
Их творчество трехкратно, триедино,
И души их, насыщенные Русью,
В слиянии своем — уже эпоха.
Ах, незабвенны Александра Блока
Слова над свежей Врубеля могилой.
«Лишь истый гений может в шуме ветра
Расслышать фразу, полную значенья».
Все трое обладали этим даром
И постоянно вслушивались в ветер,
Отображая в творчестве тот голос,
Который изъяснял России душу:
Ведь русский ветер веет русским духом.
Роман с мисс Лиль, неровный и волнистый,
То в нежных замираньях, то во вспышках
«Чудовища с зелеными глазами».
Как говорит Шекспир про ревность, вспышках
Моей косматой ревности, дремавшей
До той поры и Лизой пробужденной,
Благодаря былой новелле с князем;
Роман с мисс Лиль, нам давший темень муки,
В котором искры счастья слишком тусклы.
Роман с необъяснимым недоверьем
К ее словам, и взорам, и поступкам,
Тем более, что в скверном не заметил
Ее ни в чем, был прерван новой встречей.
Взошла Мадлена на престол фатальный
Моей души тревожной и мятежной,
Моей души, как вихрь, неугомонной.
Мой дар расцвел в ту пору полным цветом,
И ею вдохновенные поэзы
Мне дали имя. Я судить не стану
О наших отношеньях, не приведших
К взаимности, как я ее трактую.
Не стану я судить Мадлены строго,
Чтоб не сказать ей много неприятных
И едких слов: к чему? — Ее кузина
Тиана ей сказала их немало
В мою защиту. Я отмечу только
Что с мужем, к сожаленью, слишком поздно,
По-моему, она рассталась; сердце
Свое тогда Тринадцатой я отдал.
Еще отмечу, что, не помня злого,
Я навсегда признателен Мадлене
За ею принесенную мне Славу.
И до сих пор не гаснет наша дружба.
И ныне в Югославии, в Апатии
Я ей пишу желанно, получая
Печальные, молитвенные письма.
В одном из них из старого романса
Цитата — «Бога ради, ей подайте:
Она была мечтой поэта», — больно
Мое кольнуло сердце. О, Мадлена!
Не плачьте, не тоскуйте, было надо,
Должно быть, поступить, как поступили
Со мною Вы… Я вас не обвиняю.
С мисс Лиль расстались мы по доброй воле
Ее, она заметив чутко склонность
Мою к Мадлене, больше не хотела
Жить у меня. Я нежно, осторожно
Придерживал ее, но было тщетно:
Она ушла. Я, стоя на коленях,
Рыдая, провожал ее. И, плача
Ответно, Лиза долго колебалась
И вдруг ушла, стремительно ушла…
Смущен одним, как сообщает Злата,
Она сказала ей: ее я выгнал
И даже… надругался… Спорить с мертвой
Я не могу — я просто умолкаю.
А что касается ее ребенка,
Меня письмом ее сестра просила
В тринадцатому году о ней подумать.
Я жил тогда на мызе «Пустомерже»
У старенькой княгини Оболенской
С той женщиной, которая имела
Ребенка шестимесячного, дочку
Мою; та, несмотря на уговоры
И просьбы взять малютку, энергично
Противилась. То ревность или глупость?
Во всяком случае — жестокосердье.
Так шли года, и женщины мелькали,
Как лепестки под ветром с вешних яблонь:
Княжна Аруся, Сонна, Валентина
И Нефтис, и Гризельда, и Людмила,
И Фанни, и Британочка, и Вера,
И Ната — и я всех имен не помню.
Я не со всеми был телесно близок,
Но так или иначе с ними связан.
И много филигранных ощущений
Вы, милые, вы, нежные, мне дали.
Я вспоминаю всех вас благодарно.
Так шли года, и год пришел Всемирной
Войны. И Лиза вновь пришла к поэту.
Спустя три года добрая все та же
И любящая так же, как и прежде,
Она звала к себе меня. И как-то
В компании собратьев-футуристов,
Чудесно пообедав у Эрнеста,
Заехал я за нею в лимузине.
Эгисты поджидали на площадке.
Я позвонил — мне дверь открыла… Злата!
Она меня войти просила. Лизы
Не оказалось дома. Как в тумане
Я к ней вошел. Вошел угаслый, вялый
И бледно вспоминающий былое…
И было в этом что-то роковое…
Я был нетрезв и утомлен. Неясно
Соображал. Мне все казалось сном.
Спустя семь лет, в Эстонии, в июле
Пришло письмо от Златы из Берлина.
Откуда адрес мой она узнала?
Но своего мне не дала. О, Злата!
О, Женщина! Твое письмо — поэма.
Я положил его, почти дословно
На музыку — на музыку стихов.
Письмо Златы