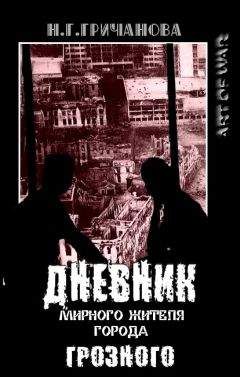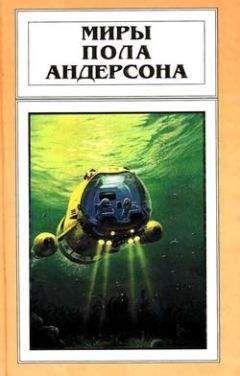Наталья Загвоздина - Дневник
Ивану Соколову
В чём сила совершилась, знает лишь
Владыка Живота. Сгорают крылья
и – снова… Отраженьем сонма линз
хрустальных поднята до свода крыша
декабрьская… А там ещё, ещё…
Законам естества перечит воздух
гармонии… И отступает счёт,
назначенный народам, жмётся возле
приборов измерительных – вотще!
То музыка, музыка. Жрец и служка,
в Завет вступивший набело, на раз.
И раковин трепещущих нора
вскрывается, настраиваясь слушать…
И где-то глубоко, в живой суме,
вскипает кровь до высоты посильной,
когда коснуться немощи сумел
Высокого невидимый посыльный.
ФРАГМЕНТЫ (2002–2007)
Провалишься! – Бездонна неба чернь.
Рукою задержусь о край земного
и, оставаясь здесь ещё немного,
ответствовать не знаю стану чем
Творцу небес и звезд, – вперяя в россыпь
зрачки, – читаю вновь движенье чувств…
И голову расцвечивает чуть
мне звёздный путь в серебряную проседь.
Ни одного!.. Ни камни, ни слова
не входят в лист,
здесь ровно и безлюдно…
Тысячелетья собраны в словарь,
в нём – тонкий Лик
и грубый горб верблюда…
Здесь горячо изнеженной стопе
прильнуть к земле,
а взгляд – вперить к Востоку…
Здесь Божий след
стал продан и пропет …[8]
Глотать вину! Чтобы испить восторга.
Лунный свет затопил Город,
и мы плыли по его рекам,
как в Венеции на гондоле,
где мы никогда не бывали,
но это – другая песня.
Каждый день продлевал горе,
и мы слышали его речи,
и снова казалось, что колет…
А люди входили важно
в Город, похожий – на перстень.
Вода в долине Силоама [9],
лист смоквы, пыль и зной,
и, ежели забыться сном,
приснятся силы Ада…
О, нет! Нездешняя страна
с рекой, текущей в камне, —
так избранность твоя скромна,
как Брачный Вечер в Кане…
И смокв лиловых огород,
и белый старец в келье,
и холм Сионский за горой,
и глаз, омытый… кем-то.
Сжигает! Но грядёт покоя час.
Ерусалима каперс белоснежен…
Стена, стеной – движенье вместе с нею,
стена и поступь – измеренья часть.
Века, каким не тесно чредованье
камней, и горожан, и смены звёзд…
Но горько между Вечными домами
и – горестно – везти измены воз.
А где-то Иордан, брега и грузный финик
с опущенной главой, готовой – отдавать,
и зреющий гранат, и вызревшие фиги,
где горсть сухой земли зовётся – Адама.
А где-то шёл путём, непризнанным соседом,
Один, Один, Один, и даже если – сонм…
И находил ночлег, и уходил со светом…
Он был тебе Земляк, Учитель, Свет и Соль.
Ступая по тропе вдоль русла Иордана,
заглядываю вглубь, не отрывая глаз,
и слышу шелест дня торжественней органа,
впадающий в Его неизреченный Глас.
В низине мёртвой пред зарёй
востока не идут напиться
живые… Не садится птица
на волны, слышные слегка, —
вы не найдёте и следа…
Вот солнце всходит – на воде
зажглась дорога – новый день
некоронованным царём
вступает во владенья оны,
несовершенностию полны.
Пейзаж закончен – завершён
его деталей список скорбный.
А солнце движется верхом…
Без… никого… И гаснет… скоро.
Здесь Путники, устав, присели в тень дубравы
Мамре – хозяин стар, радушен и высок.
Мамврийская земля – хозяин добр нравом,
и влагою поит… Прохладою висок
остужен… И, склонив три головы на плечи,
Пришельцы, замерев, готовы снова в путь…
Исходит долгий день, и наступает вечер…
И все уже ушли… И мы – когда-нибудь…
О, щедрая Земля! – пастух и виноградарь
хранят твои края, познавшие стопы,
оставившие сад, и след, и пыль над садом…
И мы к тебе пришли коснуться, и испить
у Праотца воды, и след сыскать знакомый,
войти в твои сады библейские смоковниц,
и место обрести, где Ангелы присели
в тени мамврийских рощ, чтобы… не встать… доселе.
Жребяти ждёт – Вифании родной
видны дома – дорога в Вечный Город.
Отсюда путь начнётся скорбный скоро,
и время станет Вечности равно.
Отсюда путь! – внизу Гора Олив,
масличная пора совсем не скоро…
Но и гора великая не скроет
грядущее… Сиянье детских лиц
сменяется угрюмостью владык
и яростью толпы – темнеет небо…
И вот – уже – кто был здесь и кто не был
тысячелетья пробует плоды
собрать, сберечь, взрастить живое древо,
прозябшее тогда, – «Созижду Дом».
Мы следуем за Ним – и Дома дном
лежит Ерусалим пред нами древний.
И видели – был ветр и ветра глас,
и горяча Сионская вершина
была, – собор архиерейских глав
внимал, – и ведали – свершилось!
Что? – знали все из бывших, и горел
закат с Сионом рядом,
и стал Ерусалим с Горой
сокрыт ночным нарядом…
Так Духов вечер, с неба сшед
и пребывая ввеки,
ждёт обращения и, щедр,
смежает миру веки.
Зажглись и погасли лампады рябин,
не слышится пение птах,
лишь стынущий лес мелколесьем рябит
и сумрак стоит, словно тать.
Знакома дорога, неведом конец…
Абрамцево, Родина, Русь.
В тот час, когда Он обратится ко мне,
я с тверди – остывшей – сорвусь.
Безмолвие. Абрамцево. Зима.
Звук далеко, как взгляд – за горизонтом.
Рябиновые ягоды снимать
летит снегирь, и грудь горит на солнце.
Абрамцево, безмолвие, снегирь —
и тонкий свист царапнул твердь мороза…
Смеркается, и вот – уже – ни зги,
лишь немота ночная грудь морочит…
Так поползень проворен – серебрист
его убор, его пера отличье
в пределах незатейливых Отчизны
под сенью золотой древесных риз…
Другие ризы памятны земле —
златые ризы жертвенных Обеден.
Пера инаго знаки, и победы
Живого Духа в обрамленьи лет.
Поддерживая древо и томясь
от исполненья зелени и зноя,
я знала, что ещё увидят снова,
что видели доныне и до нас…
Всё – совершилось… Жажду глубины
ствола, души – спина и ствол едины…
Полдневный зной, в какой не тают льдины
иных планет, и тесных уз – иных.
Ларисе Наумовой
Так у холста – строитель и стрелок —
стоит творец и, точно целясь кистью,
слагает Мир… Куда его ни кинуть —
зовёт, – назвать по Имени без слов
зовёт творца… И малой буквой «т»
лишь пробую означить чью-то слабость —
земную меру… горькую… всех тех,
кто у холста стоит в Господню Славу.
Благообразный Иосиф с древа снем…
Тропарь Великой СубботыКакою птицей, бабочкой, жуком
ползти, лететь, порхать, перемещаясь
в пространстве жизни с тоненьким ушком,
впускающим за выворотность счастья,
незримого ни глазу, ни такой
припухлости над тикающим сердцем,
спускающимся медленно – доколь
невидимо поднимется – до смерти.
Теперь июль – и льну к его теплу,
качаясь между будущим и прошлым,
раскачивает маятником луг
возросшее торжественно и просто.
И здесь, в лугах, в лесах, в июльском сне,
поборники нездешнего участья,
мы – отдохнём, мы вовремя – устанем,
чтобы – туда – где…
снем…
То было – рай. Не Тигр и не Евфрат
его укрыли в чаще за посёлком,
созданий переменчивых отряд
скользил…
Скользили, как иголочки по шёлку.
Здесь встал июль и замер, чуть дыша,
из недр произросли духи и духи,
и кажется – я тоже хороша [10]
взлететь туда, как только тихо дунуть.
Она пролетела – и нету.
Капризная бабочка – зной.
Верхушка и лета, и неба,
и небо покажется сном,
когда на разбитой скамейке
в саду не вполне городском
ты силишься мир голоском
назвать… И зовёшь неумело.
Конечно, не в него – не в заросли Булони
я в полночь прихожу вполголоса читать
негромкие слова… И русские бутоны
цветам иных садов, конечно, не чета.
Здесь груб чертополох, но не опасен глазу,
в неярком забытьи оставлена земля,
как сонное дитя оставлено в яслях,
но Отчий взгляд на сон его взирает с лаской.
Конечно, это – Дом, где незаезжий путник
не меряет лета, истекшие уже…
Вот позднего стиха бесхитростный сюжет:
я с Вами говорю – здесь и полно, и пусто.
Малина спелая да робкая краса
невинного малинового ложа,
проросшего, как нежная оплошность, —
смешения ненастья и осанн…
Малинник старый вырублен – ещё…
Ещё вчера – вчера о третьем лете,
и ожерельной ниточкой со щёк
спускались слёзы на огрузшей ленте
из вздохов, всхлипов, полной тишины,
теперь и впрямь уже полузабытых…
Но помню про верёвочки шипы —
у крестной у верёвочки – что были.
Нет, не шипы, сжимающие грудь, —
нам не дано ни коротко, ни длинно
нести кресты… Я в заросли малины —
ау, Дружок, – я этот знаю груз.
Прости, прости – и грузной головы
сберечь красы не думай и не помни,
твоё дыханье властно говорит
о том, что наступившее – не полдень.
Но это – день, дарованный за так, —
нам не открыты милости начала,
им нет конца, как вечности – у тайн,
но что до тайн?! – Нас таинство венчало
в иную жизнь из ветхого угла
какой-нибудь затерянной сторонки,
где высится над золотом у глав
Крест – путь – вперёд – свободно – осторожно.
Прости, прости – усталой головы
не поднимая зря, – настанут сроки,
когда Его единственные строки
тебе – поэт – и слышать, и ловить.
А мне… играть то солнцем, то луной,
то камешком, песчинкой, каплей в море,
на чью-то растворённую ладонь
сложив, что есть и что когда-то – может…
Теперь – молчу. Не шумно на пути
листаю дни и тщусь в Руце Единой
остаться До и После, – середина!
Остаться… и идти, идти, идти.
Абрамцево ты помнишь? Невесом
погожий день – воздушный шар в зените.
Безмолвствует, плывёт, а то звенит – и…
И капельки ложатся на весло
аксаковской возлюбленной реки —
ужение, покой, воспоминанья…
Простивший наши первые грехи,
о Господи! Ты дал сегодня? Нам ли?
И мне, спешащей берегом туда,
где водятся не ветхие кувшинки,
но – лилии, что будто по ошибке
плывут навстречу как небесный дар?
И жарко обнимает стройный хор
трепещущих колеблющихся пташек,
и вот уже ничуточки не страшно
лететь, не долетая неба – хоть.
Тропа и река – заодно,
изгибом замедленным русла
невидимо – радостно, грустно
тебя увлекают на дно,
под воду, под вольную сень
откуда возникшего леса
среди безмятежного лета,
и на обозреньи у всех…
Так лёгкой тропой – погоди!
Вернись… Впрочем, нет, не дозваться…
Окажешься где-то в пути,
едва обозначенном Вами…
Как плотен мороза узор
на стёклышке. Если начертишь
рассеянно – вымысел? вздор? —
царапиной ляжет на сердце.
А только ладонь приложить,
и за-мысловатый чертёжик
растает, как краткая жизнь
пред тою заветной чертою.
Как будто – убежать! Под крылышком стрижа
неявленная явь… И ветер голубой
раскрыл над головой небесную скрижаль,
пронзённую без шва стремительно… И я
зачем-то не бегу…
Смотри – летят стрижи и, рассекая твердь
небесную – парят, не опуская крыл…
Заглядываю вдаль, как девочка за дверь
замкнутую ещё, в какой до срока скрыт
тебе ответ…
Заостренным пером, как лезвием, секут
материю небес, но ткань его чиста…
Я – жажду, жду, живу, не ведая секунд
в неназванном саду – такого-то числа —
А всё казалось – жизнь, а стало – череда,
в какой не суждено изъять одной промашки,
с тобою знали мы, Кто, не забыв про наши,
нас за душу ведёт безмездно через ад…
Боюсь толиких слов. Когда душа – потёмки,
поди, пойми её, бессмертную вовек,
когда она одна очутится поверх —
земля, друзья, враги, свидетели, потомки…
Сияй, Нетварный Свет! Душа – не голубица
эдемская, уже – какую тыщу лет…
Но смертно чаем мы сыскать на наших лицах
изменчивых – один… Один нетварный след.
Тени-бабочки, осень в пути,
старый мост с гамаком паутины,
из которого встать – и уйти бы,
но усилья уже поутихли,
и теперь – не удастся – уйти.
Мошкара, стрекоза, пара ос —
чей-то щедрый улов и уловка,
паутинки натянутой лодка,
и на дне золотая соломка…
Тишина… Тишину паровоз
заполнял, как сосуд тонкостенный, —
в путь-дорогу, гудки, стук колёс…
Так и бегаешь с теми и с теми,
приминая некрепкие стебли, —
остановишься – тут же – кольнёт.
Который раз – туда! Берёзовой тропой —
немятая трава и стелется, и льнёт…
Невытоптанный мир! Душа моя, пропой
семь выплаканных строк, семь выдохов иль нот.
Ещё в твоей судьбе живут колокола,
в остывшем Алтаре не греет антиминс…
Сокрой собою жизнь, Невытоптанный мир!
Как праведную Мать библейская скала
закрыла и спасла… Младенец Иоанн
возрос и вышел в мир… И Голубь прилетел…
Приблизилось! К реке! Где Воря-Иордан
по-прежнему течёт… для этих и для тех…
С ленцою, а не чтоб рачительный садовник,
то нежу, то сомну набухших ягод плоть
и, меряясь с землёй на брёвнышке за домом,
губами задержав, постигну спелый плод.
И меряясь с землёй, не меряюсь в помине,
врастаю и влекусь, не ведая черты
меж кистью, рукавом, несобранной малиной,
смородины кустом – как ягоды черны!
Не ведаю черты меж головой и солнцем,
лишь в дрёме золотой лежит на лбу тепло,
течёт вперёд и вспять в отверстое оконце
сад, время, память, жизнь, скрываясь за стеклом…
Не входит в окоём стиха сюжет последний —
не сразу поднесу к глазам кристалл стекла…
Мне только бы вложить последнее поленце
в нестройный переплёт поленницы стиха…
С ленцою, а не чтоб рачительный хозяин,
набрасываю слов неприбранный столбец…
Покажется – в саду заброшенном – сто лет
прошли… Который век… Который час? – хотя бы.
Как грудку бабочки ловец,
сжимает август день,
трепещет крылышек-словес
полуденная тень,
летают яблоки сквозь тень,
стрекозы, мотыльки…
И все один читают текст —
владыки, мытари,
что это – сад, и рай, и мир, —
отыдите сюда!
И это – августовский миг,
рассеянный в садах…
И здесь, в крыжовника глуши,
что прост, но не колюч,
восходит и заходит жизнь
в возлюбленном краю…
Покоя нет от яблока судьбы
стремиться вниз,
о землю спотыкаясь…
И лёгкий ветер, тяге потакая,
минуя оправданья и суды,
охотится, запутываясь в них…
О, яблока падение! – В тебе
сокрыта жизнь, и счёт,
и жизни сроки…
Мгновенья приземления теперь —
уже не лето, но ещё не осень, ещё
летят, ещё конец – не в строку…
По крыше незавидного жилья
проходят и спускаются под ноги…
И ход времён – ни засветло, ни ночью
не перестанет… Разве ты иль я
ему сродни? – воробышек, кузнечик
и то родней, не знающие счёт…
Другая жизнь – я слушаю – ещё
не ухожу… но я уйду, конечно…
Ибо много званых, а мало избранных.