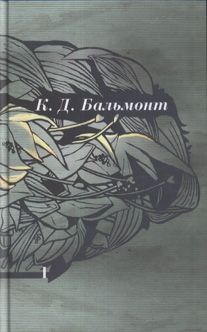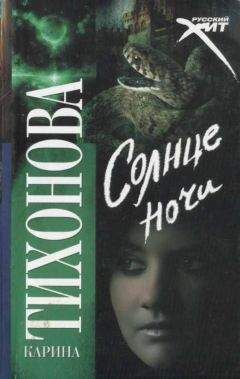Константин Бальмонт - Том 5. Стихотворения, проза
Путь к Омску,
1916, 29 мая
Тайга
Сто верст пожара,
Откуда он?
Сокрылось солнце в клубах пара,
Затянут дымом небосклон.
Ползет шипенье,
Горит тайга.
Огнистых змеев льется пенье,
И бьет поток о берега.
Вся в синих дымах,
И вся в огне.
Приют видений нелюдимых,
Бродяге, ты желанна мне.
Тайга, ты тайна
В пути слепом.
Твоя нетронутость бескрайна,
В тебе бездомному есть дом.
Подъезжая к Омску
1916. 29 мая
Лестница сна
Сначала раскрылось окно,
И снова закрылось оно,
А дух опустился на дно.
И сделалась вдруг тишина
Такою, как ей суждено
Бывать, если встала луна,
Молчать, ибо светит она.
Сначала, в сомкнутости глаз,
В тот тихий тринадцатый час,
Возник от луны пересказ,
Приникших до чувства лучей.
И где-то светильник угас,
И где-то блеснул горячей.
Был дух равномерно-ничей.
Потом распустился цветок,
И он превратился в поток,
Беззвучно текуч и глубок,
Из красок, менявших свой цвет.
И дух он тихонько увлек
В качавший все тайны рассвет,
Где путь задвигает свой след.
Тогда зачарованный слух,
Тогда обезумленный дух
Зажжется и снова потух
В себя запредельности взяв.
Но тут звонкогласый петух
Пропел для рассветных забав.
И росы мелькнули меж трав.
С.-Петербург,
1916, 5 июня
Оконце
Я смотрю на волю снова
Из оконца слюдяного.
Непрозрачная среда,
Все же небо сверху звездно,
Светит ночью многогроздно,
И Вечерняя Звезда
Мне является богатой,
Увеличенно косматой,
Словно все кругом вода,
Я, водою тесно сжатый,
Вверх смотрю со дна пруда.
Нет, конечно, я не рыба,
Неуютно жить в пруду,
Но, пока весь мир в бреду,
Здесь я с грезой речь веду.
Снег и лед. За глыбой глыба.
От излома, от изгиба,
В сердце ждущее мое
Светом входит острие.
Пляска ломких алых граней
Держит мысль в цветном тумане.
Греза – жизнь. Вступи в нее.
Радость – быть в своих основах,
Каплей в бешенстве зыбей.
В далях дней доледниковых,
Позабытых, вечно новых,
Смену красок, все скорей,
Видеть в зорях янтарей.
В том свершающемся чуде,
Где лишь после будут люди,
Я смотрю на бег слонов
Я любуюсь с мастодонтом
Беспреградным горизонтом,
В реве близких облаков.
В довременной я Сибири,
Где и ветер в белой шири
У стает порой летать.
Упадет и над беспутным,
Взрывным, вспевным, поминутным,
Чуть смущая тишь и гладь,
Буря спит, ворчунья-мать.
Ветер с ветром. Вон их стая,
У червонного Алтая,
Зацепились за скалу,
И в пещерах тешат мглу,
Снег растаял. Орхидеи
Раскрывают емкость чаш,
Воздух пьют. И мыслят змеи:
– полночь наша. Полдень наш.
Мамонт шествует мохнатый,
Пышношерстный носорог.
И громовые раскаты,
На скрещеньи их дорог,
В бубен бьют и трубят в рог.
Месяц с солнцем заглянули
В глубь разверстую горы.
Камень к небу вспрянул в гуле.
Час вулкана. Час игры.
Час, что любят все миры.
Золотая крепнет жила.
Солнцезернь. Цветет. Пора.
И луна посторожила,
Чтоб содружно шла игра
Бледных блесток серебра.
Хоть травинки запредельной
В глубь укрылась, в изумруд.
И среди скалистых груд
Огнецвет, как звон свирельный,
Брызнул сказкой там и тут:
Жуть измены влил в опалы,
Тени всех минут – в агат,
И поджег желанья алый
Влил в рубин, вшепнул в гранат,
В страсть вошел, нельзя назад.
Кто полюбит, тот безбрежен,
Он ведом лучом звезды,
Хоть сидит он, тих и нежен,
У оконца из слюды.
Москва,
1917, 16 декабря
Сорока
У сороки странный фрак.
Пусть бы черный. Это так.
Но, чтоб фрак был черно-белый,
И на бабе ошалелой,
На нахальной и такой,
Что, едва ты в лес ногой,
Так стрекочет и хохочет,
Точно черт ее щекочет.
Ты из каторги бежишь,
В глушь тайги, в лесную тишь.
Ты бежал. Не тут-то было!
Все кругом заголосило.
В ликованьи ста сорок,
Будешь пойман в быстрый срок.
Бойся бабьего восстанья,
Ведьм крылатых стрекотанья.
Сэн-Брэвен-Сосны,
Бретань,
1921, 10 августа
Георгию Гребенщикову («Тебе, суровый сын Сибири…»)
Тебе, суровый сын Сибири,
Что взором измерял тайгу,
Привет в изгнанническом мире,
На отдаленном берегу.
Ты выпытал в крестьянской доле,
Как творчески идет соха
И как в страданье и неволе
Тоска взметает взлет стиха.
Ты видел, мысля и мечтая,
Какого требует труда
В горах червонного Алтая
Золотоносная руда.
Ты принял светы талисмана
В пурге, прядущей долгий вой,
В гортанном говоре шамана,
В котором крик сторожевой.
И, много раз в тоске немея,
Душой богат, но долей сир,
Ты восхитился ликом Змея,
Который весь объемлет мир.
Не тем, с кем говорила Ева,
Кто яд из пропасти исторг, –
Ему я не спою напева
И ты не подаришь восторг.
Мой Змей вздымает океаны,
Он говорит через тайфун,
Им уготованные раны
Я утоляю звоном струн.
Его могучие извивы
В сибирских видел я лесах,
Где изумрудные заливы
Лелеют творческий размах.
Где ствол раскидистого кедра
Как довременный исполин,
И, затаясь в земные недра,
С алмазом говорит рубин.
Да будет завтра день твой новый –
Как матери родимой зов
Туда, где реки бирюзовы,
Где много милых голосов.
А ныне, с возгласом приветным,
Ты, разглядевший тайный лик,
Прими в Провансе многоцветном
Бретонской чайки взлетный крик.
Сен-Бревент-Сосны
Бретань
1922. 11 февраля
Георгию Гребенщикову («Когда в прозренье сна немого…»)
Когда в прозренье сна немого,
Таясь в постели, как в гробу,
Мы духом измеряем снова
Всю пережитую судьбу, –
Передвигая все границы
Того, что понимаем днем,
В лучах нездешней огневицы
Мы силой бывшего живем.
Мы ведаем, что существуем
Не от среды до четверга,
И дух наш радостью волнуем,
Все раздвигая берега.
Душа – ответ. И мы не спросим,
Мы видим в четких письменах,
Что там, где древле был ты лосем,
Я белкой в тех же был лесах.
Когда с рассветом дымно-алым
Ты пил студеную волну,
Над тем же плещущим Байкалом
С сосны я прыгал на сосну.
Ты, чувствуя, что близко волки,
Был изваяньем пред врагом,
А я сосновые иголки
Сбивал играющим прыжком.
Терялись волки в дикой слежке,
Ты мерно шел по склону вниз,
А я кедровые орешки
Проворными зубами грыз.
Когда ж все в мире было тихо,
Был пляс в зверином сердце ал:
С тобой – покорная лосиха,
Я белкой с белкою играл.
И, острый коготь в ствол вонзая,
Взбегал я, хвост свой распушив,
И, тишь прервав лесного края,
Твой зычный голос был красив.
Ты смотришь в зеркало возврата?
Есть в сердце тысяча очей.
Наш лес, где были мы когда-то,
Он до сих пор еще ничей.
В тысячелетьях потонули
Тот лик, тот бор, тот день, тот час.
Тогда мы не дождались пули,
Теперь облава против нас.
Но в нас живет душа живая.
И зыбим солнечный мы смех,
Ты – словом целину взрывая,
Я – в стих роняя красный мех.
Париж,