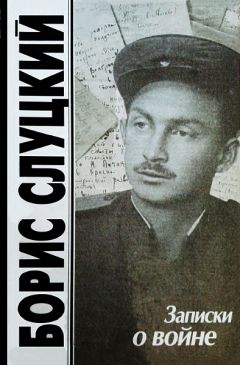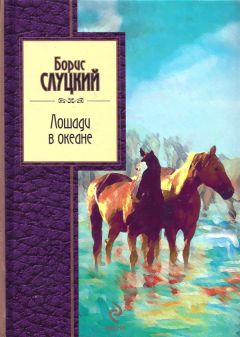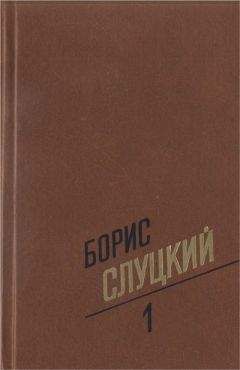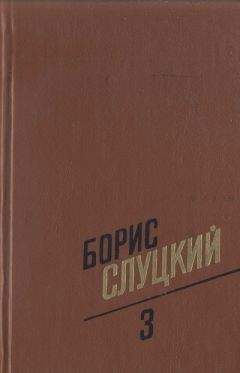Борис Слуцкий - Покуда над стихами плачут...
«Слишком юный для лагеря…»
Слишком юный для лагеря,
слишком старый для счастья;
восемнадцать мне было в тридцать седьмом.
Этот тридцать седьмой вспоминаю все чаще.
Я серьезные книги читал про Конвент.
Якобинцы и всяческие жирондисты
помогали нащупывать верный ответ.
Сладок запах истории — теплый, густой,
дымный запах, настойчивый запах, кровавый.
Но веселый и бравый, как солдатский постой.
Мне казалось, касалось совсем не меня
то, что рядом со мною происходило,
то, что год этот к памяти так пригвоздило.
Я конспекты писал, в общежитии жил.
Я в трамваях теснился, в столовой питался.
Я не сгинул тогда, почему-то остался.
Поздно ночью без стука вошли и в глаза
потайным фонарем всем студентам светили.
Всем светили и после соседа схватили.
А назавтра опять я конспекты писал,
винегрет покупал, киселем запивал
и домой возвращался в набитом трамвае,
и серьезные книги читал про Конвент,
и в газетах отыскивал скрытые смыслы,
постепенно нащупывал верный ответ.
«Жалко молодого президента…»
Жалко молодого президента[27]:
пуля в лоб. Какая чепуха!
И супругу, ту, что разодета
в дорогие барские меха.
Пуля в лоб — и все. А был красивый
и — богатый. И счастливый был.
За вниманье говорил спасибо.
Сдерживал свой офицерский пыл.
Стала сиротою Кэролайн,
девочка, дошкольница, малютка.
Всем властителям, всем королям
страшен черт: так, как его малюют.
Стала молодой вдовой Жаклин,
Белый дом меняет квартиранта.
Полумира властелин
упокоен крепко, аккуратно.
Компасная стрелка снова мечется
меж делений мира и войны.
Выигрыш случайный человечества
промотали сукины сыны[28].
Варшавянки
Были площади все изувечены.
Все дома не дождались пощад.
Но великие польские женщины
шли по городу в белых плащах.
В белых-белых плащах фирмы
«Дружба»,
в одинаковых, недорогих.
Красоты величавая служба
заработала раньше других.
Среди мусора, праха, крапивы,
в той столице, разрушенной той,
были женщины странно красивы
невзрываемой красотой.
Были профили выбиты четко,
а движения дивно легки.
Серебрились цветнопрически,
золотели цветночулки.
И белее, чем белое облако,
ярче, чем городские огни,
предвещаньем грядущего облика
той столицы
летели они.
Пролетали, земли не касаясь,
проходили сквозь мрак натощак
сонмы грустных и грозных красавиц
в одинаковых белых плащах.
Ленка с Дунькой
Ленка с Дунькой бранятся у нас во дворе,
оглашают позорные слухи,
как бранились когда-то при нас, детворе,
но теперь они обе старухи.
Ленка Дуньку корит. Что она говорит,
что она утверждает, Елена
Тимофеевна, трудовой инвалид,
ревматизмом разбиты колена?
То, что мужу была Евдокимия верна,
никогда ему не изменяла,
точно знала Елена. Какого ж рожна
брань такую она применяла?
Я их помню молоденькими, в двадцать лет,
бус и лент перманент, фигли-мигли.
Денег нет у обеих, мужей тоже нет.
Оба мужа на фронте погибли.
И поэтому Ленка, седая как лунь,
Дуньку, тоже седую, ругает,
и я, тоже седой, говорю Ленке: «Плюнь,
на-ко, выпей — берет, помогает!»
Названия и переименования
Все парки культуры и отдыха
были имени Горького,
хотя он был известен
не тем, что плясал и пел,
а тем, что видел в жизни
немало плохого и горького
и вместе со всем народом
боролся или терпел.
А все каналы имени
были товарища Сталина,
и в этом смысле лучшего
названия не сыскать[29],
поскольку именно Сталиным
задача была поставлена,
чтоб всю нашу старую землю
каналами перекопать.
Фамилии прочих гениев
встречались тоже, но редко.
Метро — Кагановича именем
было наречено.
То пушкинская, то чеховская,
то даже толстовская метка
то школу, то улицу метили,
то площадь, а то — кино.
А переименование —
падение знаменовало.
Недостоверное имя
школа носить не могла.
С грохотом, равным грохоту
горного, что ли, обвала,
обрушивалась табличка
с уличного угла.
Имя падало с грохотом
и забывалось не скоро,
хотя позабыть немедля
обязывал нас закон.
Оно звучало в памяти,
как эхо давнего спора,
и кто его знает, кончен
или не кончен он?
Реконструкция Москвы
Девятнадцатый век разрушают.
Шум, и гром, и асфальтная дрожь.
Восемнадцатый — не разрешают.
Девятнадцатый — рушь, как хошь.
Било бьет кирпичные стены,
с ног сшибает, встать не дает.
Не узнать привычной системы.
Било бьет.
Дом, где Лермонтову рождаться
хорошо было, — не подошел.
Эти стены должны раздаться,
чтоб сквозь них троллейбус прошел.
Мрамор черный и камень белый,
зал двухсветных вечерний свет —
что захочешь, то с ним и делай,
потому — девятнадцатый век.
Било жалит дома, как шершень,
жжет и не оставляет вех.
Век текущий бьет век прошедший.
На подходе — грядущий век.
Старое синее
Громыхая костями,
но спину почти не горбатя,
в старом лыжном костюме
на старом и пыльном Арбате,
в середине июля,
в середине московского лета —
Фальк![30]
Мы тотчас свернули.
Мне точно запомнилось это.
У величья бывают
одежды любого пошива,
и оно надевает
костюмы любого пошиба.
Старый лыжный костюм
он таскал фатовато и свойски,
словно старый мундир
небывалого старого войска.
Я же рядом шагал,
молчаливо любуясь мундиром
тех полков, где Шагал —
рядовым, а Рембрандт —
командиром[31],
и где краски берут
прямо с неба — с небес отдирают,
где не тягостен труд
и где мертвые не умирают.
Так под небом Москвы,
синим небом, застиранным, старым,
не склонив головы,
твердым шагом, ничуть не усталым,
шел художник, влачил
свои старые синие крылья,
и не важно, о чем
мы тогда говорили.
Наглядная судьба
Мотается по универмагу
потерянное дитя.
Еще о розыске бумагу
не объявляли.
Миг спустя
объявят,
мать уже диктует
директору набор примет,
а ветер горя дует, дует,
идет решительный момент.
Засматривает тете каждой
в лицо:
не та, не та, не та! —
с отчаянной и горькой жаждой.
О, роковая пустота!
Замотаны платочком ушки,
чернеет родинка у ней:
гремят приметы той девчушки
над этажами все сильней.
Сейчас ее найдут, признают,
за ручку к маме отведут
и зацелуют, заругают.
Сейчас ее найдут, найдут!
Быть может, ей и не придется
столкнуться больше никогда
с судьбой, что на глазах прядется:
нагая, наглая беда.
Трибуна
Вожди из детства моего!
О каждом песню мы учили,
пока их не разоблачили,
велев не помнить ничего.
Забыть мотив, забыть слова,
чтоб не болела голова.
…Еще столица — Харьков. Он
еще владычен и державен.
Еще в украинской державе
генсеком правит Косиор[32].
Он мал росточком, коренаст
и над трибуной чуть заметен,
зато лобаст, и волей мечен,
и спуску никому не даст.
Иона рядом с ним, Якир[33]
с лицом красавицы еврейской,
с девическим лицом и резким,
железным
вымахом руки.
Петровский, бодрый старикан[34],
специалист по ходокам,
и Балицкий, спец по расправам[35],
стоят налево и направо.
А рядышком: седоволос,
высок и с виду — всех умнее,
Мыкола Скрыпник, наркомпрос[36].
Самоубьется он позднее.
Позднее: годом ли, двумя,
как лес в сезон лесоповала,
наручниками загремя,
с трибуны загремят в подвалы.
Пройдет еще не скоро год,
еще не скоро их забудем,
и, ожидая новых льгот,
мы, площадь, слушаем трибуну.
Низы, мы слушаем верхи,
а над низами и верхами
проходят облака, тихи,
и мы следим за облаками.
Какие нынче облака!
Плывут, предчувствий не тревожа.
И кажется совсем легка
истории большая ноша.
Как день горяч! Как светел он!
Каким весна ликует маем!
А мы идем в рядах колонн,
трибуну с ходу обтекаем.
«Разговор был начат и кончен Сталиным…»