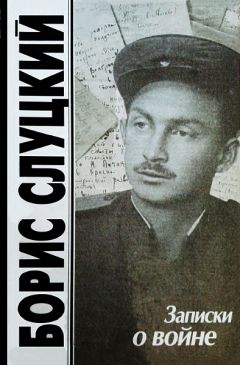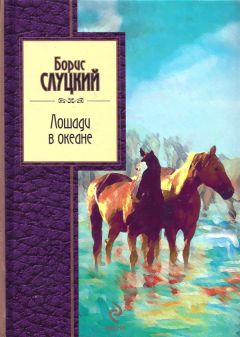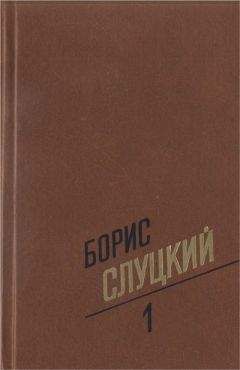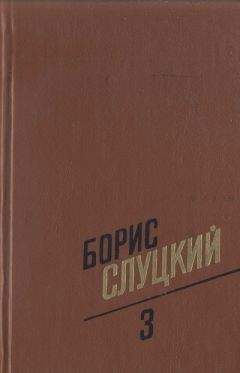Борис Слуцкий - Покуда над стихами плачут...
Ключ
У меня была комната с отдельным ходом.
Я был холост и жил один.
Всякий раз, как была охота,
в эту комнату знакомых водил.
Мои товарищи жили с тещами
и с женами, похожими на этих тещ, —
слишком толстыми, слишком тощими.
Усталыми, привычными, как дождь.
Каждый год старея на год,
рожая детей (сыновей, дочерей),
жены становились символами тягот,
статуями нехваток и очередей.
Мои товарищи любили жен.
Они вопрошали все чаще и чаще:
— Чего ты не женишься? Эх ты, пижон!
Чего ты понимаешь в семейном счастье?
Мои товарищи не любили жен.
Им нравились девушки с молодыми
руками,
с глазами,
в которые,
раз погружен,
падаешь,
падаешь,
словно камень.
А я был брезглив (вы, конечно, помните),
но глупых вопросов не задавал.
Я просто давал им ключ от комнаты.
Они просили, а я — давал.
Злые собаки
Злые собаки на даче
ростом с волка. С быка!
Эту задачу
мы не решили пока.
Злые собаки спокойно
делают дело свое:
перевороты и войны
не проникают в жилье,
где благодушный владелец
многих безделиц,
слушая лай,
кушает чай.
Да, он не пьет, а вкушает
чай.
За стаканом стакан.
И — между делом — внушает
людям, лесам и стогам,
что заработал
этот уют,
что за работу
дачи дают.
Он заслужил, комбинатор,
мастер, мастак и нахал.
Он заработал, а я-то?
Я-то руками махал?
Просто шатался по жизни?
Просто гулял по войне?
Скоро ли в нашей Отчизне
дачу построят и мне?
Что-то не слышу
толков про крышу.
Не торопиться
мне с черепицей.
Исподволь лес не скупать!
В речке телес не купать!
Да, мне не выйти на речку,
и не бродить меж лесов,
и не повесить дощечку
с уведомленьем про псов.
Елки зеленые,
грузди соленые —
не про меня.
Дачные псы обозленные,
смело кусайте меня.
«А нам, евреям, повезло…»
А нам, евреям, повезло.
Не прячась под фальшивым флагом,
на нас без маски лезло зло.
Оно не притворялось благом.
Еще не начинались споры
в торжественно-глухой стране.
А мы — припертые к стене —
в ней точку обрели опоры.
Про евреев
Евреи хлеба не сеют,
евреи в лавках торгуют,
евреи рано лысеют,
евреи много воруют.
Евреи — люди лихие,
они солдаты плохие:
Иван воюет в окопе,
Абрам торгует в рабкопе.
Я все это слышал с детства,
скоро совсем постарею,
но все никуда не деться
от крика: «Евреи, евреи!»
Не торговавши ни разу,
не воровавши ни разу,
ношу в себе, как заразу,
проклятую эту расу.
И пуля меня миновала,
чтоб знали: молва не лжива.
«Евреев не убивало!
Все воротились живы!»
Внезапное воспоминание
Жилец схватился за жилет
и пляшет.
Он человек преклонных лет,
а как руками машет,
а как ногами бьет паркет
схватившийся за свой жилет
рукою,
и льется по соседу пот
рекою.
Все пляшет у меховщика:
и толстая его щека,
и цепь златая,
и белизна его манжет,
и конфессиональный жест —
почти летая.
И достигают высоты
бровей угрюмые кусты
и под усами зыбко
бредущая улыбка.
А я — мне нет и десяти,
стою и не могу уйти:
наверно, понял,
что полувека не пройдет
и это вновь ко мне придет.
И вот — я вспомнил.
Да, память шарит по кустам
десятилетий. Здесь и там
усердно шарит.
Ей все на свете нипочем.
Сейчас бабахнет кирпичом
или прожекторным лучом
сейчас ударит.
«Черта под чертою. Пропала оседлость…»
Черта под чертою. Пропала оседлость[22]:
шальное богатство, веселая бедность.
Пропало. Откочевало туда,
где призрачно счастье, фантомна беда.
Селедочка — слава и гордость стола,
селедочка в Лету давно уплыла.
Он вылетел в трубы освенцимских топок,
мир скатерти белой в субботу и стопок.
Он — черный. Он — жирный. Он — сладостный
дым.
А я его помню еще молодым.
А я его помню в обновах, шелках,
шуршащих, хрустящих, шумящих как буря,
а в будни, когда он сидел в дураках,
стянув пояса или брови нахмуря.
Селедочка — слава и гордость стола,
селедочка в Лету давно уплыла.
Планета! Хорошая или плохая,
не знаю. Ее не хвалю и не хаю.
Я знаю немного. Я знаю одно:
планета сгорела до пепла давно.
Сгорели меламеды в драных пальто,
их нечто оборотилось в ничто.
Сгорели партийцы, сгорели путейцы,
пропойцы, паршивцы, десница и шуйца,
сгорели, утопли в потоках летейских,
исчезли, как семьи Мстиславских и
Шуйских.
Селедочка — слава и гордость стола,
селедочка в Лету давно уплыла.
«Еврейским хилым детям…»
Еврейским хилым детям,
ученым и очкастым,
отличным шахматистам,
посредственным гимнастам —
советую заняться
коньками, греблей, боксом,
на ледники подняться,
по травам бегать босым.
Почаще лезьте в драки,
читайте книг немного,
зимуйте, словно раки,
идите с веком в ногу,
не лезьте из шеренги
и не сбивайте вех.
Ведь он еще не кончился,
двадцатый страшный век.
Бог
Мы все ходили под богом.
У бога под самым боком.
Он жил не в небесной дали,
его иногда видали
живого. На Мавзолее.
Он был умнее и злее
того — иного, другого,
по имени Иегова[23],
которого он низринул,
извел, пережег на уголь,
а после из бездны вынул
и дал ему стол и угол[24].
Мы все ходили под богом.
У бога под самым боком.
Однажды я шел Арбатом,
бог ехал в пяти машинах.
От страха почти горбата,
в своих пальтишках мышиных
вздрагивала охрана.
Было поздно и рано.
Серело. Брезжило утро.
Он глянул жестоко, мудро
своим всевидящим оком,
всепроницающим взглядом.
Мы все ходили под богом.
С богом почти что рядом.
Хозяин
А мой хозяин не любил меня —
не знал меня, не слышал и не видел,
а все-таки боялся, как огня,
и сумрачно, угрюмо ненавидел.
Когда меня он плакать заставлял,
ему казалось: я притворно плачу.
Когда пред ним я голову склонял,
ему казалось: я усмешку прячу.
А я всю жизнь работал на него,
ложился поздно, поднимался рано.
Любил его. И за него был ранен.
Но мне не помогало ничего.
А я возил с собой его портрет.
В землянке вешал и в палатке вешал —
смотрел, смотрел,
не уставал смотреть.
И с каждым годом мне все реже, реже
обидною казалась нелюбовь.
И ныне настроенья мне не губит
тот явный факт, что испокон веков
таких, как я, хозяева не любят.
«Не пуля была на излете, не птица…»
Не пуля была на излете, не птица —
мы с нашей эпохой ходили
проститься.
Ходили мы глянуть на нашу судьбу,
лежавшую тихо и смирно в гробу.
Как слабо дрожал в светотрубках неон.
Как тихо лежал он — как будто не он.
Не черный, а рыжий, совсем
низкорослый,
совсем невысокий — седой и рябой,
лежал он — вчера еще гордый и
грозный,
и слывший, и бывший всеобщей
судьбой.
«Художники рисуют Ленина…»