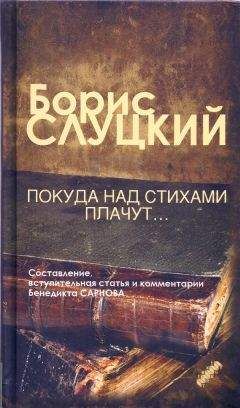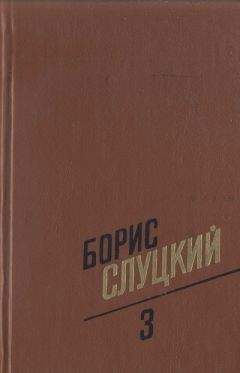Борис Слуцкий - Лошади в океане
«Бывший кондрашка, ныне инсульт…»
Бывший кондрашка, ныне инсульт,
бывший разрыв, ныне инфаркт,
что они нашей морали несут?
Только хорошее. Это — факт.
Гады по году лежат на спине.
Что они думают? — Плохо мне.
Плохо им? Плохо взаправду. Зато
гады понимают за что.
Вот поднимается бывший гад,
ныне — эпохи своей продукт,
славен, почти здоров, богат,
только ветром смерти продут.
Бывший безбожник, сегодня он
верует в бога, в чох и в сон.
Больше всего он верит в баланс.
Больше всего он бы хотел,
чтобы потомки ценили нас
по сумме — злых и добрых дел.
Прав он? Конечно, трижды прав.
Поэтому бывшего подлеца
не лишайте, пожалуйста, прав
исправиться до конца.
«Отлежали свое в окопах…»
Отлежали свое в окопах,
отстояли в очередях,
кое-кто свое в оковах
оттомился на последях.
Вот и все: и пафосу — крышка,
весь он выдохся и устал,
стал он снова Отрепьевым Гришкой,
Лжедимитрием быть перестал.
Пафос пенсию получает.
Пафос хвори свои врачует.
И во внуках души не чает.
И земли под собой не чует.
Оттого, что жив, что утром
кофе черное медленно пьет,
а потом с размышлением мудрым
домино на бульваре забьет.
Такая эпоха
Сколько, значит, мешков с бедою
и тудою стаскал и сюдою,
а сейчас ему — ничего!
Очень даже неплохо!
Отвязались от него,
потому что такая эпоха.
Отпустили, словно в отпуск.
Пропустили, дали пропуск.
Допустили, оформили допуск.
Как его держава держала,
а теперь будто руки разжала.
Он и выскочил, но не пропал,
а в другую эпоху попал.
Да, эпоха совсем другая.
А какая? Такая,
что ее ругают,
а она — потакает.
И корова своя, стельная.
И квартира своя, отдельная.
Скоро будет машина личная
и вся жизнь пойдет отличная.
На «Диком» пляже
Безногий мальчишка, калечка,
неполные полчеловечка,
остаток давнишнего взрыва
необезвреженной мины,
величественно, игриво,
торжественно прыгает мимо
с лукавою грацией мима.
И — в море! Бултых с размаху!
И тельце блистает нагое,
прекрасно, как «Голая Маха»
у несравненного Гойи.
Он вырос на краешке пляжа
и здесь подорвался — на гальке,
и вот он ныряет и пляшет,
упругий, как хлыст, как нагайка.
Как солнечный зайчик, как пенный,
как белый барашек играет,
и море его омывает,
и солнце его обагряет.
Здесь, в море, любому он равен.
— Плывите, посмотрим, кто дальше! —
Не помнит, что взорван и ранен,
доволен и счастлив без фальши.
О море! Без всякой натуги
ты лечишь все наши недуги.
О море! Без всякой причины
смываешь все наши кручины.
Разные формулы счастья
В том ли счастье?
А в чем оно, счастье,
оборачивавшееся отчасти
зауряднейшим пирогом,
если вовсе не в том, а в другом?
Что такое это другое?
Как его трактовать мы должны?
Образ дачного, что ли, покоя?
День Победы после войны?
Или та черта, что подводят
под десятилетним трудом?
Или слезы, с которыми входят
после странствий в родимый дом?
Или новой техники чара?
Щедр на это двадцатый век.
Или просто строка из «Анчара» —
«человека человек»?
«Не верю, что жизнь — это форма…»
Не верю, что жизнь — это форма
существованья белковых тел.
В этой формуле — норма корма,
дух из нее давно улетел.
Жизнь. Мудреные и бестолковые
деянья в ожиданьи добра.
Индифферентно тело белковое,
а жизнь — добра.
Белковое тело можно выразить,
найдя буквы, подобрав цифры,
а жизнь — только сердцем на дубе вырезать.
Нет у нее другого шифра.
Когда в начале утра раннего
отлетает душа от раненого,
и он, уже едва дыша,
понимает, что жизнь — хороша,
невычислимо то понимание
даже для первых по вниманию
машин, для лучших по уму.
А я и сдуру его пойму.
Сельское кладбище
(Элегия)
На этом кладбище простом
покрыты травкой молодой
и погребенный под крестом,
и упокоенный звездой.
Лежат, сомкнув бока могил.
И так в веках пребыть должны,
кого раскол разъединил
мировоззрения страны.
Как спорили звезда и крест!
Не согласились до сих пор!
Конечно, нет в России мест,
где был доспорен этот спор.
А ветер ударяет в жесть
креста, и слышится: Бог есть!
И жесть звезды скрипит в ответ,
что бога не было и нет.
Пока была душа жива,
ревели эти голоса.
Теперь вокруг одна трава.
Теперь вокруг одни леса.
Но, словно затаенный вздох,
внезапно слышится: есть Бог!
И словно приглушенный стон:
Нет бога! — отвечают в тон.
Физики и лирики
«Надо думать, а не улыбаться…»
Надо думать, а не улыбаться,
Надо книжки трудные читать,
Надо проверять — и ушибаться,
Мнения не слишком почитать.
Мелкие пожизненные хлопоты
По добыче славы и деньжат
К жизненному опыту
Не принадлежат.
Ночью с Москве
Ночью тихо в Москве и пусто.
Очень тихо. Очень светло.
У столицы, у сорокоуста,
звуки полночью замело.
Листопад, неслышимый в полдень,
в полночь прогремит как набат.
Полным ходом, голосом полным
трубы вечности ночью трубят.
Если же проявить терпенье,
если вслушаться в тихое пенье
проводов, постоять у столба,
можно слышать, что шепчет судьба.
Можно слышать текст телеграммы
за долами, за горами
нелюбовью данной любви.
Можно уловить мгновенье
рокового звезд столкновения.
Что захочешь, то и лови!
Ночью пусто в Москве и тихо.
Пустота в Москве. Тишина.
Дня давно отгремела шутиха.
Допылала до пепла она.
Все трамваи уехали в парки.
Во всех парках прогнали гуляк.
На асфальтовых гулких полях
стук судьбы, как слепецкая палка.
«Кричали и нравоучали…»
Кричали и нравоучали.
Какие лозунги звучали!
Как сотрясали небеса
Неслыханные словеса!
А надо было — тише, тише,
А надо было — смехом, смехом.
И — сэкономились бы тыщи
И — все бы кончилось успехом.
О борьбе с шумом
Надо привыкнуть к музыке за стеной,
к музыке под ногами,
к музыке над головами.
Это хочешь не хочешь, но пребудет со мной,
с нами, с вами.
Запах двадцатого века — звук.
Каждый миг старается, если не вскрикнуть —
скрипнуть.
Остается одно из двух —
привыкнуть или погибнуть.
И привыкает, кто может,
и погибает, кто
не может, не хочет, не терпит, не выносит,
кто каждый звук надкусит, поматросит и бросит.
Он и погибнет зато.
Привыкли же, притерпелись к скрипу земной оси!
Звездное передвижение нас по ночам не будит!
А тишины не проси.
Ее не будет.
«Поэты малого народа…»