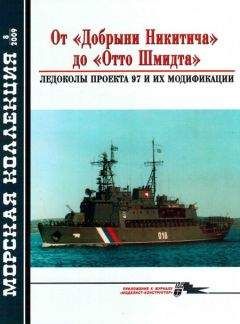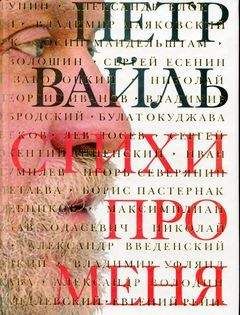Борис Чичибабин - Сияние снегов (сборник)
«Как страшно в субботу ходить на работу…»
Как страшно в субботу ходить на работу,
в прилежные игры согбенно играться
и знать, на собраньях смиряя зевоту,
что в тягость душа нам и радостно рабство.
Как страшно, что ложь стала воздухом нашим,
которым мы дышим до смертного часа,
а правду услышим – руками замашем,
что нет у нас Бога, коль имя нам масса.
Как страшно смотреть в пустоглазые рожи,
на улицах наших как страшно сегодня,
как страшно, что, чем за нас платят дороже,
тем дни наши суетней и безысходней.
Как страшно, что все мы, хотя и подстражно,
пьянчуги и воры – и так нам и надо.
Как страшно друг с другом встречаться. Как страшно
с травою и небом вражды и разлада.
Как страшно, поверив, что совесть убита,
блаженно вкушать ядовитые брашна
и всуе вымаливать чуда у быта,
а самое страшное – то, что не страшно.
«Мне снится грусти неземной…»
Мне снится грусти неземной
язык безустный,
и я ни капли не больной,
а просто грустный.
Не отстраняясь, не боясь,
не мучась ролью,
тоска вселенская слилась
с душевной болью.
Среди иных забот и дел
на тверди серой
я в должный час переболел
мечтой и верой.
Не созерцатель, не злодей,
не нехристь все же,
я не могу любить людей,
прости мне, Боже!
Припав к незримому плечу
ночами злыми,
ничем на свете не хочу
делиться с ними.
Гордыни нет в моих словах –
какая гордость? –
лишь одиночество и страх,
под ними горблюсь.
Душа с землей свое родство
забыть готова,
затем что нету ничего
на ней святого.
Как мало в жизни светлых дней,
как черных много!
Я не могу любить людей,
распявших Бога.
Да смерть – и та – нейдет им впрок,
лишь мясо в яму, –
кто небо нежное обрек
алчбе и сраму.
Покуда смертию не стер
следы от терний,
мне ближе братьев и сестер
мой лес вечерний.
Есть даже и у дикарей
тоска и память.
Скорей бы, Господи, скорей
в безбольность кануть.
Скорей бы, Господи, скорей
от зла и фальши,
от узнаваний и скорбей
отплыть подальше!..
«Я почуял беду и проснулся от горя и смуты…»
Я почуял беду и проснулся от горя и смуты,
и заплакал о тех, перед кем в неизвестном долгу, –
и не знаю, как быть, и как годы проходят минуты…
Ах, родные, родные, ну чем я вам всем помогу?
Хоть бы чуда занять у певучих и влюбчивых клавиш,
но не помнит уроков дурная моя голова,
а слова – мы ж не дети, – словами беды не убавишь,
больше тысячи лет, как не Бог нам диктует слова.
О, как мучает мозг бытия неразумного скрежет,
как смертельно сосет пустота вседержавных высот.
Век растленен и зол. И ничто на земле не утешит.
Бог не дрогнет на зов. И ничто в небесах не спасет.
И меня обижали – безвинно, взахлеб, не однажды,
и в моем черепке всем скорбям чернота возжена,
но дано вместо счастья мученье таинственной жажды,
и прозренье берез, и склоненных небес тишина.
И спасибо животным, деревьям, цветам и колосьям,
и смиренному Баху, чтоб нам через терньи за ним, –
и прощенье врагам, не затем, чтобы сладко спалось им,
а чтоб стать хоть на миг нам свободней и легче самим.
Еще могут сто раз на позор и на ужас обречь нас,
но, чтоб крохотный светик в потемках сердец не потух,
нам дает свой венок – ничего не поделаешь – Вечность,
и все дальше ведет – ничего не поделаешь – Дух.
«Покамест есть охота…»
Покамест есть охота,
покуда есть друзья,
давайте делать что-то,
иначе жить нельзя.
Ни смысла и ни лада,
и дни как решето, –
и что-то делать надо,
хоть неизвестно что.
Ведь срок летуч и краток,
вся жизнь – в одной горсти, –
так надобно ж в порядок
хоть душу привести.
Давайте что-то делать,
чтоб духу не пропасть,
чтоб не глумилась челядь
и не кичилась власть.
Никто из нас не рыцарь,
не праведник челом,
но можно ли мириться
с неправдою и злом?
Давайте делать что-то
и, черт нас подери,
поставим Дон Кихота
уму в поводыри.
Пусть наша плоть недужна
и безысходна тьма,
но что-то делать нужно,
чтоб не сойти с ума.
Уже и то отрада
у запертых ворот,
что все, чего не надо,
известно наперед.
Решай скорее, кто ты,
на чьей ты стороне, –
обрыдли анекдоты
с похмельем наравне.
Давайте что-то делать,
опомнимся потом, –
стихи мои и те вот
об этом об одном.
За Божий свет в ответе
мы все вину несем.
Неужто все на свете
окончится на сем?
Давайте ж делать то, что
Господь душе велел,
чтоб ей не стало тошно
от наших горьких дел!
«Благодарствую, други мои…»
Благодарствую, други мои,
за правдивые лица.
Пусть, светла от взаимной любви,
наша подлинность длится.
Будьте вечно такие, как есть, –
не борцы, не пророки,
просто люди, за совесть и честь
отсидевшие сроки…
Одного я всем сердцем боюсь,
как пугаются дети,
что одно скажет правнукам Русь:
как не надо на свете.
Видно, вправду такие чаи,
уголовное время,
что все близкие люди мои –
поголовно евреи…
За молчанье разрозненных дней,
за жестокие версты
обнимите меня посильней,
мои братья и сестры.
Но и все же не дай вам Господь
уезжать из России.
Нам и надо лишь соли щепоть
на хлеба городские.
Нам и надо лишь судеб родство,
понимание взгляда.
А для бренных телес ничего
нам вовеки не надо.
Вместе будет нам в худшие дни
не темно и не тяжко.
Вы одни мне заместо родни,
павлопольская бражка.
Как бы ни были встречи тихи,
скоротечны мгновенья,
я еще напишу вам стихи
о святом нетерпенье.
Я еще позову вас в бои,
только были бы вместе.
Благодарствую, други мои,
за приверженность чести.
Нашей жажде все чаши малы,
все, что есть, вроде чуши.
Благодарствую, други мои,
за правдивые души.
Зине Миркиной
Душа родная, человек живой,
пророк Господень с незлобливым взглядом,
даривший нас миротворящим ладом,
смиреньем дум и гулкой тишиной.
Друг на земле и в Вечности сестра, –
вот Вы больны, вот мы от Вас далече,
но с нами – Ваши письма, наши встречи,
стихи в лесу, у Вашего костра.
Не Вы ли нам открыли свет глубин,
что есть во всех, но лишь немногим ведом,
и озарили тем блаженным светом
искус и мрак безжизненных годин?
Не Вы ли нам твердили о Творце,
о правоте Его сокрытой воли,
что нам нести без ропота и боли
и, вверясь ей, не думать о конце?
Не Вы ль учили: светел духа путь,
лишь тропы тела путаны и зыбки,
и скорби нет в звучанье горней скрипки,
но зовче зов и явственнее путь?
Спасибо Вам за то, что с той поры
и нашим снам светлее и свободней,
за смысл и тайну сказки новогодней,
за все, за все несчетные дары.
За негасимый праздник Рождества –
о, сколько душ он вырастил и поднял! –
за крестный путь, за каждодневный подвиг,
за кроткий жар и тихие слова…
Зачем же вдруг, склонясь на голос тьмы,
о бедный друг, в той горестной заботе,
устав от мук, Вы смерть к себе зовете,
забыв свои бессмертные псалмы?
Зачем Вы вдруг поникли головой,
«прости» всему и замолчали миру,
из рук роняя творческую лиру, –
душа родная, человек живой?
Да не умолкнет славящая песнь,
а нам дай Бог не упустить ни звука
из песни той. Что Вечности – разлука?
Что Духу – смерть? Что Сущности – болезнь?
Но если это нужно так Ему,
мой скудный век Ему на усмотренье:
пусть Вам оставит свет, восторг, паренье,
а мне даст тяжесть, терния и тьму.
О, дай мне Бог недолго быть в долгу,
средь дрязг и чар, в одеждах лживых Духа.
Дай Бог Вам сил, и радости, и слуха.
Так я молюсь – и лучше не могу.
На лыжах
Земля в снегу – как небо в облаках.
Замри, метель, не мни и не колышь их.
Что горевать о грозах, о врагах?
Идем на лыжах.
Все утро дуло, крышами гремя,
но стихло вдруг, и, с холоду поникши,
кой-как плетусь за храбрыми тремя
и набираюсь мужества по Ницше.
Мы вчетвером вползаем в зимний лес.
Как он велик! Как низко я зимую.
Как свеж покров, наброшенный с небес
на пестрый сор и черноту земную.
Бела дорога в царство лебедей.
А мы-то все трясемся и цыганим,
но весь наш мир бездушней и бедней
в соседстве с этим блеском и дыханьем.
И пусть неважный лыжник из меня,
а все ж и мне, сутулому, навстречу
бегут осины, ветками звеня,
дубы плывут – и я им не перечу.
И я, как воздух, вечен и крылат,
но свет еще добрей и беззаботней.
О, как у лыжниц личики горят!
Как светел дух под ласкою Господней!
Ни рвы, ни пни, ни черные стволы,
ни пир ворон на выгоревшем месте
не омрачат сверкающей хвалы,
не заглушат неуловимой вести.
Я никому из чутких не чужой,
но сладок сон: задумчиво-неспешно
скользить в снегах серебряной стезей,
чья белизна божественно безгрешна.
Скажу одно: блажен, кому дано
в морозный день, набегавшись по лыжням,
разлить по чарам зелено вино
и пить в любви к неведомым и ближним.
Элегия февральского снега