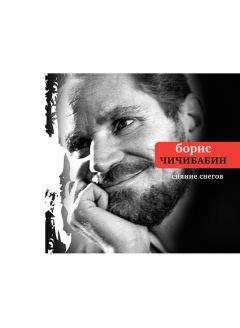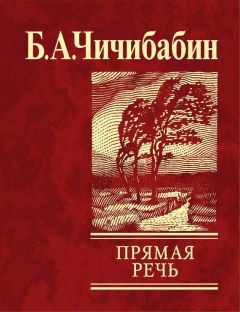Борис Чичибабин - Собрание стихотворений
1967–1994
* * * Тебя со мной попутал бес{99}
шататься зимней чащей,
где ты сама была как лес,
тревожный и молчащий.
В нем снег от денного тепла
лежал тяжел и лепок —
и стыли ножки у тебя
в ботиночках нелепых.
Мы шли По лесу наугад,
навек, напропалую,
и ни один не видел гад,
как я тебя целую.
Дышал любимой на виски
и молча гладил руки
и задыхался от тоски
и нестерпимой муки.
Нам быть счастливыми нельзя,
а завтра будет хуже, —
и лишь древесные друзья
заглядывали в души.
Да с лаской снежная пыльца,
неладное почуяв,
касалась милого лица
и горьких поцелуев.
* * * На сердце красится боль и досада{100}.
Милым лицом твоим весь озарясь,
только с тобою изыйду из ада,
Лиля Карась.
Прелесть примет твоих неуловима.
Ты во спасенье мое родилась.
С верой шепчу твое светлое имя,
Лиля Карась.
Жизнь твою стиснули робость и жалость
страхом беды повседневно казнясь,
тайной мечтанья в ночах освежалась
Лиля Карась.
В шуме вражды беззащитен и странен
лик твой иконный, но братством гордясь,
рады деревья в бору, что сестра им
Лиля Карась.
Кончатся сроки раздумий и странствий.
Хватятся правнуки: как ты звалась?
Встретимся травами. Шепотом: — Здравствуй,
Лиля Карась.
Только с тобой, — до последней одышки,
по бездорожию, злу не корясь, —
в шапочке вязаной, в старом пальтишке
Лиля Карась.
А как уйду, от разлуки избавлен,
горечью вея да прахом курясь,
будем вовеки: Борис Чичибабин —
Лиля Карась.
* * * В январе на улицах вода{101},
темень с чадом.
Не увижу неба никогда
сердцем сжатым.
У меня из горла — не слова —
боли комья.
В жизни так еще не тосковал
ни по ком я.
Ты стоишь, как Золушка, в снегу,
ножки мочишь.
Улыбнись мне углышками губ,
если можешь.
В январе не разыскать следов.
Сны холонут.
Отпусти меня, моя любовь,
камнем в омут.
Мне не надо больше смут и бед,
славы, лени.
Тихо душу выдохну тебе
на колени.
Упаду на них горячим лбом.
Ох, как больно!
Вся земля — не как родильный дом,
а как бойня.
В первый раз приходит Рождество
в черной роли.
Не осталось в мире ничего,
кроме боли.
И в тоске, и в смерти сохраню
отсвет тайны.
Мы с тобой увидимся в раю.
До свиданья.
* * * И вижу зло, и слышу плач{102},
и убегаю, жалкий, прочь,
раз каждый каждому палач
и никому нельзя помочь.
Я жил когда-то и дышал,
но до рассвета не дошел.
Темно в душе от Божьих жал,
хоть горсть легка, да крест тяжел.
Во сне вину мою несу
и — сам отступник и злодей —
безлистым деревом в лесу
жалею и боюсь людей.
Меня сечет Господня плеть,
и под ярмом горбится плоть, —
и ноши не преодолеть,
и ночи не перебороть.
И были дивные слова,
да мне сказать их не дано,
и помертвела голова,
и сердце умерло давно.
Я причинял беду и боль,
и от меня отпрянул Бог
и раздавил меня, как моль,
чтоб я взывать к нему не мог.
КОЛОКОЛ{103}
Возлюбленная! Ты спасла мои корни!
И волю, и дождь в ликовании пью.
Безумный звонарь, на твоей колокольне
в ожившее небо, как в колокол, бью.
О как я, тщедушный, о крыльях мечтал,
о как я боялся дороги окольной.
А пращуры душу вдохнули в металл
и стали народом под звон колокольный.
Да буду и гулок, как он, и глубок,
да буду, как он, совестлив и мятежен.
В нем кротость и мощь. И ваятель Микешин
всю Русь закатал в тот громовый клубок.
* * * Когда взыграют надо мной{104}
весны трагические трубы,
мне вслед за ними поутру бы
и только при смерти домой.
Как страшно спать под мертвой кровлей,
а не под ласковой листвой,
и жить не мудростью людской,
а счастья суетною ловлей.
Но держат шоры грошовые,
служебно-паспортный режим,
чтоб я остался недвижим
и все мы были неживые.
Вот почему, как в жар дождя,
как ждут амнистии под стражей,
я жду шагов твоих с утра уже,
до крика к вечеру дойдя.
Свое дневное отработав
заради скудного куска,
мы — должники твои, тоска
пустынных лестничных пролетов.
Но уведи меня туда,
где мир могуч, а травы пряны,
где наши ноющие раны
омоет нежная вода.
Там ряска сеется на заводь
сквозь огневое решето,
и мы возьмем с собой лишь то,
что и в раю нельзя оставить.
Из всей древесности каштан
достоин тысячи поклонов,
а из прозаиков — Платонов,
а из поэтов — Мандельштам.
Там дышит хмель и каплет сок,
и, трав телесностью наполнясь,
ты в них вдохнешь свою духовность
и станешь легкой, как цветок.
Там все свежо и озаренно
и ничему запрета нет
навеянному с детских лет
новеллами Декамерона.
Там все, что лесом прожито,
хранит малюсенький кустарник,
он не слыхал стихов бездарных
и разговоров ни про что.
Там пир всемирного братанья,
и только люди — без корней.
Так уведи меня скорей
туда, где все — добро и тайна.
Ф. Кривину
Я груз небытия вкусил своим горбом{105}:
смертельна соль воды, смертельна горечь хлеба,
но к жизни возвращен обыденным добром —
деревьями земли и облаками неба.
Я стер с молчащих губ отчаянья печать,
под нежной синевой забыл свои мученья.
Когда не слышно слов, всему дано звучать,
все связано со всем и все полно значенья.
И маску простоты с реальности сорвав,
росой тяжелых зорь умыв лицо и руки,
как у священных книг, у желтоглазых трав
играючи учусь безграмотной науке.
Из кроткой доброты и мудрого стыда
кую свою броню, трудом зову забавы
и тихо говорю: «Оставьте навсегда
отчаянье и страх, входящие сюда вы».
На благодарный пир полмира позову,
навстречу счастью засвечу ресницы, —
и ничего мне больше не приснится:
и ад, и рай — все было наяву.
* * * Как я ревную к мазку живописца{106},
разуму резчика!
Дай наготы твоей свежей напиться,
Лиличка-реченька!
Век мой безжалостный, век мой высокий —
дебри политики.
Ты ж из дождей, из одежд, из осоки,
щедрая, вытеки.
Чтобы рассудка насупленный берег,
вставши над бездною,
выдышал, вышептал в óблаках белых
нежность небесную.
Чтобы в разлуках не видеть ни зги бы —
памятью вычертясь,
снились твои волновые изгибы,
струй переливчатость.
Чтобы, оживши от снов светоносных,
чарами лечащих,
в сердце вбирать твой возвышенный воздух,
Лиличка-реченька.
* * * Трепещу перед чудом Господним{107},
потому что в бездушной ночи
никого я не спас и не поднял,
по-пустому слова расточил.
Ты ж таинственней черного неба,
золотей Мандельштамовых тайн.
Не меня б тебе знать, и не мне бы
за тобою ходить по пятам.
На земле не пророк и не воин,
истомленный твоей красотой, —
как мне горько, что я не достоин,
как мне стыдно моей прожитой!
Разве мне твой соблазн и духовность,
колокольной телесности свет?
В том, что я этой радостью полнюсь,
ничего справедливого нет.
Я ничтожней последнего смерда,
но храню твоей нежности звон,
что, быть может, одна и бессмертна
на погосте отпетых времен.
Мне и сладостно, мне и постыдно.
Ты — как дождь от лица до подошв.
Я тебя никогда не постигну,
но погибну, едва ты уйдешь.
Так прости мне, что заживо стыну,
что свой крест не умею нести,
и за стыд мой, за гнутую спину
и за малый талант мой — прости.
Пусть вся жизнь моя в ранах и в оспах,
будь что будет, лишь ты не оставь,
ты — мой свет, ты — мой розовый воздух,
смех воды поднесенной к устам.
Ты в одеждах и то как нагая,
а когда все покровы сняты,
сердце падает, изнемогая,
от звериной твоей красоты.
ВЕСЕННИЕ СТАНСЫ{108}
1
Над всей землей — ласкающая высь.
Зато зимой я весь мольба: «Явись!»
Весна нисходит к любящим с высот
и всех живых от холода спасет.
2
Как с губ ребенка первые слова,
пробилась тонко первая трава,
спросонок почки щурятся с ветвей,
и самый свет становится светлей.
3
В последний раз мы печку разожжем.
Еще деревья дремлют нагишом,
но даже корни чувствуют весну —
и с ними я все ночи не засну.
4
В моей руке любимая рука.
Да будет ей любовь моя легка.
Возьми, весна, и нас в одно свяжи,
чтоб стали дни просторны и свежи.
5
Я прожил годы в горе и тоске,
бросал на ветер, строил на песке
и заплатил всей мукою земной,
чтоб в этот час она была со мной.
6
Цветами рощ, каменьями морей
пестро жилье возлюбленной моей,
скворечня муз, где прозы шум и лязг
нам не слышны среди стихов и ласк.
7
Лети, душа, за солнышком в зенит!
Пусть каждый шаг о радости звенит
и длится сон, и слышу горный зов
под белый звон святых колоколов.
8
Весна нисходит, землю веселя.
Ее призыв услышала земля.
О, как еще ей зябко по утрам,
но свет влечет, и смысл его упрям.
9
Так дай, о жизнь, безмерна и щедра,
сто раз коснуться милого бедра
и по весне морозною зарей
в блаженном сне на родине зарой.
* * * Еще недавно ты со мной{109},
два близнеца в страде земной,
молились морю с Карадага.
Над гулкой далью зрел миндаль,
мой собеседник был Стендаль,
а я был радостный бродяга.
И мир был только сотворен,
и белка рыжим звонарем
над нами прыгала потешно.
Зверушка, шишками шурша,
видала, как ты хороша,
когда с тебя снята одежда.
Водою воздух голубя,
на обнаженную тебя
смотрела с нежностью Массандра,
откуда мы, в конце концов,
вернулись в горький край отцов,
где грусть оставили назавтра.
Вся жизнь с начала начата,
и в ней не видно ни черта,
и распинает нищета
по обе стороны креста нас, —
и хочется послать на «ё»
народолюбие мое,
с которым все же не расстанусь.
Звезда упала на заре,
похолодало на дворе,
и малость мальская осталась:
связать начала и концы,
сказать, что все мы мертвецы,
и чаркой высветлить усталость.
Как ни стыжусь текущих дней,
быть сопричастником стыдней, —
ох, век двадцатый, мягко стелешь!
Освобождаюсь от богов,
друзей меняю на врагов
и радость вижу в красоте лишь.
Ложь дня ко мне не приросла.
Я шкурой вызнал силу зла,
я жил, от боли побелевший,
но злом дышать невмоготу
тому, кто видел наготу
твою на южном побережье.
А. И. СОЛЖЕНИЦЫНУ{110}
Изрезан росписью морщин,
со лжою спорит Солженицын.
Идет свистеж по заграницам,
а мы обугленно молчим.
И думаем: «На то и гений,
чтоб быть орудием добра, —
и слава пастырю пера,
не убоявшуся гонений!..»
В ночи слова теряют вес,
но чин писателя в России
за полстолетия впервые
он возвеличил до небес.
Чего еще ему бояться,
чьи книги в сейфах заперты,
кто стал опорой доброты
и ратником яснополянца,
кто, сроки жизни сократив,
раздавши душу без отдарства,
один за всех — на государство,
казенной воле супротив?
Упырствуют? А ты упорствуй
с ошметком вольности в горсти
и дружбой правнуков сласти
свой хлеб пророческий и черствый.
Лишь об одном тебя молю
в пылу, боюсь, что запоздалом:
не поддавайся русохвалам,
на лесть гораздым во хмелю.
Не унимайся, сын землицын,
во лбы волнение вожги!
В Кремле артачатся вожди.
Творит в Рязани Солженицын.
И то беда, а не просчет,
что в скором времени навряд ли
слова, что бременем набрякли,
Иван Денисович прочтет.
СОЖАЛЕНИЕ{111}
Я грех свячу тоской.
Мне жалко негодяев —
как Алексей Толстой
и Валентин Катаев.
Мне жаль их пышных дней
и суетной удачи:
их сущность тем бедней,
чем видимость богаче.
Их сок ушел в песок,
чтоб, к веку приспособясь,
за лакомый кусок
отдать талант и совесть.
Их светом стала тьма,
их ладом стала заметь,
но им палач — сама
тревожливая память.
Кто знает, сколько раз,
возвышенность утратив,
в них юность отреклась
от воздуха и братьев.
Как страшно быть шутом
на всенародных сценах —
и вызывать потом
безвинно убиенных.
В них роскошь языка —
натаска водолея —
судила свысока
Платонова Андрея.
(О нем, чей путь тернист,
за чаркою растаяв,
«Какой же он стилист?» —
обмолвился Катаев.)
Мне жаль их все равно.
Вся мера их таланта —
известная давно
словесная баланда.
Им жарко от наград,
но вид у них отечен,
и щеки их горят
от призрачных пощечин.
Безжизненные пни,
разляписто-убоги,
воистину они —
знамение эпохи…
Я слезы лью о двух,
но всем им нет предела,
чей разложился дух
скорей, чем плоть истлела
и умерло Лицо,
себя не узнавая,
под трупною ленцой
льстеца и краснобая.
* * * Жизнь кому сито, кому решето{112}, —
всех не помилуешь.
В осыпь всеобщую Вас-то за что,
Осип Эмильевич?..
* * * Цветы лежали на снегу{113},
твое лицо тускнело рядом, —
и лишь дыханием и взглядом
я простонать про то смогу.
Был воздух зимний и лесной,
как дар за годы зла и мрака,
была могила Пастернака
и профиль с каменной слезой.
О счастье, что ни с кем другим
не шел ни разу без тебя я,
на строчки бережно ступая,
по тем заснежьям дорогим.
Как после неуместен был
обед в полупарадном стиле,
когда еще мы не остыли
от пастернаковской судьбы…
Звучи, поэзия, звучи,
как Маяковский на Таганке!
О три сосны — как три цыганки,
как три языческих свечи…
Когда нам станет тяжело,
ты приходи сюда погреться,
где человеческое сердце
и под землей не зажило.
Чужую пыль с надгробья смой,
приникни ртом к опальной ране,
где я под вещими ветрами
шумлю четвертою сосной.
* * * Куда мне бежать от бурлацких замашек?{114}
Звенят небеса высоко.
На свете совсем не осталось ромашек
и синих, как сон, васильков.
Отдай мою землю с дождем и рябиной,
верни мне березы в снегу.
Я в желтые рощи ушел бы с любимой,
да много пройти не смогу.
Лишь воздух полуночи мой собеседник.
Сосняк не во сне ли возник?
Там серый песок, там чабрец и бессмертник,
там дикие звезды гвоздик.
Бросается в берег русалочья брага.
Там солнышком воздух согрет.
И сердце не вспомнит ни худа, ни блага,
ни школьных, ни лагерных лет.
И Вечность вовек не взойдет семицветьем
в загробной безрадостной мгле.
И я не рожден в девятьсот двадцать третьем,
а вечно живу на земле.
Я выменял память о дате и годе
на звон в поднебесной листве.
Не дяди и тети, а Данте и Гете
со мной в непробудном родстве.
* * * Тебе, моя Русь, не Богу, не зверю{115} —
молиться молюсь, а верить — не верю.
Я сын твой, я сон твоего бездорожья,
я сызмала Разину струги смолил.
Россия русалочья, Русь скоморошья,
почто не добра еси к чадам своим?
От плахи до плахи по бунтам, по гульбам
задор пропивала, порядок кляла, —
и кто из достойных тобой не погублен,
о гулкие кручи ломая крыла.
Нет меры жестокости ни бескорыстью,
и зря о твоем же добре лепетал
дождем и ветвями, губами и кистью
влюбленно и злыдно еврей Левитан.
Скучая трудом, лютовала во блуде,
шептала арапу: кровцой полечи.
Уж как тебя славили добрые люди —
бахвалы, опричники и палачи.
А я тебя славить не буду вовеки,
под горло подступит — и то не смогу.
Мне кровь заливает морозные веки.
Я Пушкина вижу на жженом снегу.
Наточен топор, и наставлена плаха.
Не мой ли, не мой ли приходит черед?
Но нет во мне грусти и нет во мне страха.
Прими, моя Русь, от сыновних щедрот.
Я вмерз в твою шкуру дыханьем и сердцем,
и мне в этой жизни не будет защит,
и я не уйду в заграницы, как Герцен,
судьба Аввакумова в лоб мой стучит.
* * * Больная черепаха{116} —
ползучая эпоха,
смотри: я — горстка праха,
и разве это плохо?
Я жил на белом свете
и даже был поэтом, —
попавши к миру в сети,
раскаиваюсь в этом.
Давным-давно когда-то
под песни воровские
я в звании солдата
бродяжил по России.
Весь тутошний, как Пушкин
или Василий Теркин,
я слушал клеп кукушкин
и верил птичьим толкам.
Я — жрец лесных религий,
мне труд — одна морока,
по мне, и Петр Великий
не выше скомороха.
Как мало был я добрым
хоть с мамой, хоть с любимой,
за что и бит по ребрам
судьбиной, как дубиной.
В моей дневной одышке,
в моей ночи бессонной
мне вечно снятся вышки
над лагерною зоной.
Не верю в то, что руссы
любили и дерзали.
Одни врали и трусы
живут в моей державе.
В ней от рожденья каждый
железной ложью мечен,
а кто измучен жаждой,
тому напиться нечем.
Вот и моя жаровней
рассыпалась по рощам.
Безлюдно и черно в ней,
как в городе полнощном.
Юродивый, горбатенький,
стучусь по белу свету —
зову народ мой батенькой,
а мне ответа нету.
От вашей лжи и люти
до смерти не избавлен,
не вспоминайте, люди,
что я был Чичибабин.
Уже не быть мне Борькой,
не целоваться с Лилькой,
опохмеляюсь горькой.
Закусываю килькой.
ПРОКЛЯТИЕ ПЕТРУ{117}
Будь проклят, император Петр,
стеливший душу, как солому!
За боль текущего былому
пора устроить пересмотр.
От крови пролитой горяч,
будь проклят, плотник саардамский,
мешок с дерьмом, угодник дамский,
печали певческой палач!
Сам брады стриг? Сам главы сек!
Будь проклят, царь-христоубийца,
за то, что кровию упиться
ни разу досыта не смог!
А Русь ушла с лица земли
в тайнохранительные срубы,
где никакие душегубы
ее обидеть не могли.
Будь проклят, ратник сатаны,
смотритель каменной мертвецкой,
кто от нелепицы стрелецкой
натряс в немецкие штаны.
Будь проклят, нравственный урод,
ревнитель дел, громада плоти!
А я служу иной заботе,
а ты мне затыкаешь рот.
Будь проклят тот, кто проклял Русь —
сию морозную Элладу!
Руби мне голову в награду
за то, что с ней не покорюсь.
ТАЛЛИНН{118}
У Бога в каменной шкатулке
есть город темной штукатурки,
испорошившейся на треть,
где я свое оставил сердце —
не подышать и насмотреться,
а полюбить и умереть.
Войдя в него, поймете сами,
что эти башенки тесали
для жизни, а не красоты.
Для жизни — рынка заварушка,
и конной мельницы вертушка,
и веры тонкие кресты.
С блаженно-нежною усмешкой
я шел за юной белоснежкой,
былые горести забыв.
Как зябли милые запястья,
когда наслал на нас ненастье
свинцово-пепельный залив.
Но доброе средневековье
дарило путников любовью,
как чудотворец и поэт.
Его за скудость шельмовали,
а все ж лошадки жерновами
мололи суету сует…
У Бога в каменной шкатулке
есть жестяные переулки,
домов ореховый раскол
в натеках смол и стеарина
и шпиль на ратуше старинной,
где Томас лапушки развел.
За огневыми витражами
пылинки жаркие дрожали
и пел о Вечности орган.
О город готики Господней,
в моей безбожной преисподней
меня твой облик настигал.
Наверно, я сентиментален.
Я так хочу вернуться в Таллинн
и лечь у вышгородских стен.
Там доброе средневековье
колдует людям на здоровье —
и дух не алчет перемен.
* * * С далеких звезд моленьями отозван{119},
к земле прирос
и с давних пор живет в лесу литовском
Иисус Христос.
Знобят дожди его нагое тело,
тоскуют с ним,
и смуглота его посеверела
от здешних зим.
Его лицо знакомо в каждом доме,
где видят сны,
но тихо стонут нищие ладони
в кору сосны.
Не слыша птиц, не радуясь покою
лесных озер,
он сел на пень и жалобной рукою
щеку подпер…
Я в ту страну лесную и речную
во сне плыву,
но все равно я ветрено ревную
к нему Литву.
Он там сидит на пенышке сосновом
под пенье ос,
и до сих пор никем не арестован
смутьян Христос.
Про черный день в его крестьянской торбе
пяток сельдей.
Душа болит от жалости и скорби
за всех людей.
Ему б — не ложь словесного искуса,
молву б листвы…
Ну как же вы не видели Иисуса
в лесах Литвы?
* * * Месяц прошел и год, десять пройдет и сто{120}, —
дышит — поет внизу море в барашках белых.
Ласточкино гнездо, Ласточкино гнездо —
нежного неба зов, южного моря берег.
Прожитых дней печаль стихла и улеглась.
Чайки сулят покой. Звездно звенят цикады.
Близким теплом души, блеском любимых глаз
в Ласточкином гнезде так неземно тиха ты.
Наши сердца кружит солнца и моря хмель,
память забыла все горести и ненастья.
Почка лозы святой — пушкинская свирель —
путников вновь свела в замке добра и счастья.
Сладостно-солона вечная синева,
юность ушла в туман на корабле прошедшем.
«Ласточкино гнездо» — ласковые слова,
те, что не раз, не два мы в тишине прошепчем.
Как за волной волна, тайне душа верна.
Спят за горой гора в свете от кипарисов.
Давние времена, славные имена,
как ветровой привет и как заветный вызов.
Стань для меня с тобой памятью и звездой,
где, как веков настой, море шумит в пещерах,
Ласточкино гнездо, Ласточкино гнездо —
нежного неба зов, южного моря берег.
* * * Деревья бедные, зимою черно-голой{121}
что снится вам на городском асфальте?
Сквозь сон услышьте добрые глаголы,
моим ночам свою беду оставьте.
Взмахнув ветвями, сделайтесь крылаты,
летите в Крым, где хорошо и южно,
где только жаль, что не с моей зарплаты,
а то и нам погреться было б нужно.
Морозы русские, вы злее, чем монголы,
корней не рушьте, сквозь кору не жальте…
Что может сниться вам зимою черно-голой,
деревья бедные, на городском асфальте?
* * * Дай вам Бог с корней до крон{122}
без беды в отрыв собраться.
Уходящему — поклон.
Остающемуся — братство.
Вспоминайте наш снежок
посреди чужого жара.
Уходящему — рожок.
Остающемуся — кара.
Всяка доля по уму:
и хорошая, и злая.
Уходящего — пойму.
Остающегося — знаю.
Край души, больная Русь, —
перезвонность, первозданность
(с уходящим — помирюсь,
с остающимся — останусь) —
дай нам, вьюжен и ледов,
безрассуден и непомнящ,
уходящему — любовь,
остающемуся — помощь.
Тот, кто слаб, и тот, кто крут,
выбирает каждый между:
уходящий — меч и труд,
остающийся — надежду.
Но в конце пути сияй
по заветам Саваофа,
уходящему — Синай,
остающимся — Голгофа.
Я устал судить сплеча,
мерить временным безмерность.
Уходящему — печаль.
Остающемуся — верность.
ПАМЯТИ А. ТВАРДОВСКОГО{123}
Вошло в закон, что на Руси
при жизни нет житья поэтам,
о чем другом, но не об этом
у черта за душу проси.
Но чуть взлетит на волю дух,
нислягут рученьки в черниле,
уж их по-царски хоронили,
за исключеньем первых двух.
Из вьюг, из терний, из оков,
из рук недобрых, мук немалых
народ над миром поднимал их
и бережно, и высоко.
Из лучших лучшие слова
он находил про опочивших,
чтоб у девчонок и мальчишек
сто лет кружилась голова.
На что был загнан Пастернак —
тихоня, бука, нечестивец,
а все ж бессмертью причастились
и на его похоронах…
Иной венец, иную честь,
Твардовский, сам себе избрал ты,
затем чтоб нам хоть слово правды
по-русски выпало прочесть.
Узнал, сердечный, каковы
плоды, что муза пожинала.
Еще лады, что без журнала.
Другой уйдет без головы.
Ты слег, о чуде не моля,
за все свершенное в ответе…
О, есть ли где-нибудь на свете
Россия — родина моя?
И если жив еще народ,
то почему его не слышно
и почему во лжи облыжной
молчит, дерьма набравши в рот?
Ведь одного его любя,
превыше всяких мер и правил,
ты в рифмы Теркина оправил,
как сердце вынул из себя.
И в зимний пасмурный денек,
устав от жизни многотрудной,
лежишь на тризне малолюдной,
как жил при жизни одинок.
Бесстыдство смотрит с торжеством.
Земля твой прах сыновний примет,
а там Маршак тебя обнимет,
«Голубчик, — скажет, — с Рождеством!..»
До кома в горле жаль того нам,
кто был эпохи эталоном —
и вот, унижен, слеп и наг,
лежал в гробу при орденах,
но с голодом неутоленным, —
на отпеванье потаенном
куда пускали по талонам
на воровских похоронах.
СЕРГЕЮ ЕСЕНИНУ{124}
Ты нам во славу и в позор,
Сергей Есенин.
Не по добру твой грустен взор
в пиру осеннем.
Ты подменил простор земной
родной халупой;
не то беда, что ты хмельной,
а то, что глупый.
Ты, как слепой, смотрел на свет
и не со зла ведь
хотел бы славить, что не след
поэту славить.
И, всем заветам вопреки,
как соль на раны,
ты нес беду не в кабаки,
а в рестораны.
Смотря с тоскою на фиал —
еще б налили, —
с какой ты швалью пропивал
ключи Марии.
За стол посаженный плебей —
и ноги на стол, —
и баб-то ты любил слабей,
чем славой хвастал.
Что слаще лбу, что солоней —
венец ли, плаха ль?
О, ресторанный соловей,
вселенский хахаль!
Ты буйством сердца полыхал,
а не мечтами,
для тех, кто сроду не слыхал
о Мандельштаме.
Но был по времени высок,
и я не Каин —
в твой позолоченный висок
не шваркну камень.
Хоть был и неуч, и позер,
сильней, чем ценим,
ты нам и в славу, и в позор,
Сергей Есенин.
* * * До могилы Ахматовой сердцем дойти нелегко{125} —
через славу и ложь, стороной то лесной, то овражной,
по наследью дождя, по тропе, ненадежной и влажной,
где печаль сентябрей собирает в полях молоко.
На могиле Ахматовой надписи нет никакой.
Ты к подножью креста луговые цветы положила,
а лесная земля крестный сон красотой окружила,
подарила сестре безымянный и светлый покой.
Будь к могиле Ахматовой, финская осень, добра,
дай бездомной и там не отвыкнуть от гордых привычек.
В рощах дятлы стучат, и грохочет тоской электричек
город белых ночей, город Пушкина, город Петра.
Облака в вышине обрекают злотворцев ее
на презренье веков, и венчаньем святого елея
дышат сосны над ней. И победно, и ясно белея,
вечно юн ее профиль, как вечно стихов бытие.
У могилы Ахматовой скорби расстаться пора
с горбоносой рабой, и, не выдержав горней разлуки,
к ней в бессмертной любви протянул запоздалые руки
город черной беды, город Пушкина, город Петра.
ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ВИДЕНИЯ
В НАЧАЛЕ СЕМИДЕСЯТЫХ{126}
О Господи, подай нам всем скончаться за год
до часа, как Китай пойдет войной на Запад.
Для напасти такой, что вскорости накатит,
ни Дантов и ни Гой у вечности не хватит.
Исполнится с лихвой пророчество рязанца:
над Русью и Литвой удары разразятся.
Прислушайся к земле в ознобе и тревоге:
беда уже в седле и страх уже в дороге.
Нашествие скотин с головками из воска,
как будто бы с картин Иеронима Босха.
Голодная орда, чьи помыслы кровавы,
растопчет города греховности и славы.
Ничто не оградит от кольев и укусов
кричащих Афродит и стонущих Иисусов.
Когда свершится суд, под клики негодяев
в один костер пойдут и Ленин, и Бердяев.
Горами мертвых тел обрушится эпоха,
и тем, кто уцелел, равно придется плохо.
О дьвол, чем поишь? Никто так не поил нас.
В развалинах Париж, Флоренция и Вильнюс.
Весь мир пойдет на снедь для той орды бродячей,
да так, что даже смерть покажется удачей.
С изысканностью мук Европе спорить нечем:
слыхали, чтоб бамбук рос в теле человечьем?
В кишку воткни, ловчась, и боль навив мотками,
по сантиметру в час пойдет вгрызаться в ткани.
И желтый сатана с восточною усмешкой
поднимется со дна над жизнью головешкой…
Рекомая беда, венчающая сцена,
вот не скажу когда, но будет непременно.
А чтоб не думал ты, что я пекусь о малом,
свои — желтым-желты по нынешним журналам.
Там, кровью обагрен, шлет вязкие повестки
на дружеский погром Петруша Верховенский.
Воздев на шею крест и всю родню прирезав,
на гноище воскрес кровавейший из бесов.
История, тю-тю! Кончайте ваши пренья,
а умников — к ногтю, земле для удобренья.
Что сеял — то пожни: мы разве были добрыми?
О Боже, ниспошли хотя б скончаться вовремя.
О Господи, подай нам всем подохнуть за год
до часа, как Китай навалится на Запад.
* * * Улыбнись мне еле-еле{127},
что была в раю хоть раз ты.
Этот рай одной недели
назывался Саулкрасты.
Там приют наш был в палатке
у смолистого залива,
чьи доверчивы повадки,
а величие сонливо.
В Саулкрасты было небо
в облаках и светлых зорях.
В Саулкрасты привкус хлеба
был от тмина прян и горек.
В Саулкрасты были сосны,
и в кустах лесной малины
были счастливы до слез мы,
оттого что так малы мы.
Там встречалася не раз нам
мавка, девочка, певунья,
чье веселым и прекрасным
было детское безумье.
В ней не бешеное пламя,
не бессмысленная ярость, —
разговаривала с пнями,
нам таинственно смеялась…
С синим небом белый парус
занят был игрою в прятки,
и под дождь нам сладко спалось
в протекающей палатке.
Нам не быть с мечтой в разлуке.
На песок, волна, плесни-ка,
увлажни нам рты и руки
вместо праздника, брусника.
Мы живем, ни с кем не ссорясь,
отрешенны и глазасты.
Неужели мы еще раз
не увидим Саулкрасты?
РИГА{128}
Как Золотую Книгу
в застежках золотых же,
я башенную
Ригу читаю по-латышски.
Улыбкой птицеликой
смеется сквозь века мне
царевна-горемыка
из дерева и камня.
Касавшиеся Риги
покоятся во прахе —
кафтаны и вериги,
тевтоны и варяги.
Здесь край светловолосых,
чье прошлое сокрыто,
но в речи отголосок
священного санскрита.
Где Даугава катит
раскатистые воды,
растил костлявый прадед
цветок своей свободы.
Он был рыбак и резчик
и тешил душу сказкой,
а воду брал из речек
с кувшинками и ряской.
Служа мечте заслоном,
ладонью меч намацав,
бросал его со звоном
на панцири германцев.
И просыпалась Рига,
ища трудов и споров,
от птиц железных крика
на остриях соборов…
А я чужой всему здесь,
и мне на стыд и зависть
чужого сна дремучесть,
чужого сада завязь.
Как божия коровка,
под башнями брожу я.
Мне грустно и неловко
смотреть на жизнь чужую.
Как будто бы на Сене,
а может быть, на Рейне
души моей спасенье —
вечерние кофейни.
Вхожу горбат и робок,
об угол стойки ранюсь
и пью из темных стопок,
что грел в ладонях Райнис…
Ушедшему отсюда
скитаться и таиться
запомнится как чудо
балтийская столица.
И ночью безнебесной
услышим я и Лиля,
как петушок железный
зовет зарю со шпиля.
Гори, сияй, перечь-ка
судьбе — карге унылой,
янтарное колечко
на пальчике у милой.
Да будут наши речи
светлы и нелукавы,
как розовые свечи
пред ликом Даугавы.
БАХ
В ДОМСКОМ СОБОРЕ{129}
Светлы старинные соборы.
В одном из них по вечерам
сиял и пел орган, который
был сам похож на Божий храм.
И там, воспряв из тьмы и праха,
крылами белыми шурша,
в слезах провеивала Баха
миротворящая душа.
Все лица превращались в лики,
все будни тлели вдалеке,
и Бах не в лунном парике,
а в звездном звоне плыл по Риге.
Он звал в завременную даль
от жизни мелочной и рьяной
и обволакивал печаль
светлоулыбчивой нирваной.
И мы, забыв про плен времен,
уняв умы, внимали скопно,
как он то жаловался скорбно,
то веселился, просветлен.
Мы были близкие у близких,
и в нас ни горечи, ни лжи,
и светом сумерек латвийских
просвечивали витражи.
И развевался светлый саван
под сводами, где выше гор
сиял и пел орган, и сам он
был как готический собор.