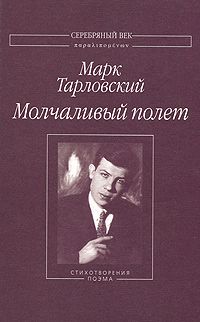Илья Эренбург - Избранное
(1940)
176. «Мы жили в те воинственные годы…»
Мы жили в те воинственные годы,
Когда, как джунглей буйные слоны,
Леса ломали юные народы
И прорывались в сон, истомлены.
Такой разгон, такое непоседство,
Что в ночь одну разгладились межи,
Растаял полюс, будто иней детства,
И замерли, пристыжены, стрижи.
Хребту приказано, чтоб расступиться,
Русло свое оставила река,
На север двинулись полки пшеницы,
И розы зацвели среди песка.
Так подчинил себе высокий разум
Лёт облака и смутный ход корней,
И стала ночь, обглоданная глазом,
Еще непостижимей и черней.
Стихи писали про любви уловки,
В подсумок зарывали дневники,
А женщины рожали на зимовке,
И уходили в море моряки.
(1940)
177. «Я знаю: будет золотой и долгий…»
Я знаю: будет золотой и долгий,
Как мед густой, непроходимый полдень,
И будут с гирями часы на кухне,
В саду гудеть пчела и сливы пухнуть.
Накроют к ужину, и будет вечер,
Такой же хрупкий и такой же вечный,
И женский плач у гроба не нарушит
Ни чина жизни, ни ее бездушья.
(1940)
178. «В городе брошенных душ и обид…»
В городе брошенных душ и обид
Горе не спросит и ночь промолчит.
Ночь молчалива, и город уснул.
Смутный доходит до города гул:
Это под темной больной синевой
Мертвому городу снится живой,
Это проходит по голой земле
Сон о веселом большом корабле, —
Ветер попутен, и гавань тесна,
В дальнее плаванье вышла весна.
Люди считают на мачтах огни;
Где он причалит, гадают они.
В городе горе, и ночь напролет
Люди гадают, когда он придет.
Ветер вздувает в ночи паруса.
Мертвые слышат живых голоса.
1940
179. «Кончен бой. Над горем и над славой…»
Кончен бой. Над горем и над славой
В знойный полдень голубеет явор.
Мертвого солдата тихо нежит
Листьев изумительная свежесть.
О деревья, мира часовые,
Сизо-синие и голубые!
Под тобой пастух играл на дудке,
Отдыхал, тобой обласкан, путник.
И к тебе шутя пришли солдаты.
Явор счастья, убаюкай брата!
1940
180. «Как эти сосны и строенья…»
Как эти сосны и строенья
Прекрасны в зеркале пруда,
И сколько скрытого волненья
В тебе, стоячая вода!
Кипят на дне глухие чувства,
Недвижен темных вод покров,
И кажется, само искусство
Освобождается от слов.
1940
181. «Где играли тихие дельфины…»
Где играли тихие дельфины,
Далеко от зелени земли,
Нарываясь по ночам на мины,
Молча умирают корабли.
Суматошливый, большой и хрупкий,
Человек не предает мечты, —
Погибая, он спускает шлюпки,
Сбрасывает сонные плоты.
Синевой охваченный, он верит,
Что земля любимая близка,
Что ударится о светлый берег
Легкая, как жалоба, доска.
Видя моря яростную смуту,
Средь ночи, измученный волной,
Он еще в последнюю минуту
Бредит берегом и тишиной.
1940
182. «Рта и надбровья смутное строенье…»
Рта и надбровья смутное строенье,
Все тени, что с младенчества легли, —
Есть в человеке мастера волненье
И тишина глубокая земли.
Когда земля в опасности, бесстрашней
К ней человек на выручку идет.
Не отличить бойца от жадной пашни,
И зерна гнева мечет пулемет.
Где скошенные падали на землю
И мертвые еще живых вели,
Под светлым деревом победа дремлет,
Как слепок с темной и большой земли.
1940
183. «Города горят. У тех обид…»
Города горят. У тех обид
Тонны бомб, чтоб истолочь гранит.
По дорогам, по мостам, в крови,
Проползают ночью муравьи,
И летит, летит, летит щепа —
Липы, ружья, руки, черепа.
От полей исходит трупный дух.
Псы не лают, и молчит петух,
Только говорит про мертвый кров
Рев больных, недоеных коров.
Умирает голубая ель
И олива розовых земель,
И родства не помнящий лишай
Научился говорить «прощай»,
И на ста языках человек,
Умирая, проклинает век.
… Будет день, и прорастет она —
Из костей, как всходят семена, —
От сетей, где севера треска,
До Сахары праздного песка,
Всколосятся руки и штыки,
Зашагают мертвые полки,
Зашагают ноги без сапог,
Зашагают сапоги без ног,
Зашагают горя города,
Выплывут утопшие суда,
И на вахту встанет без часов
Тень товарища и облаков.
Вспомнит старое крапивы злость,
Соком ярости нальется гроздь,
Кровь проступит сквозь земли тоску,
Кинется к разбитому древку,
И труба поведает, крича,
Сны затравленного трубача.
1940
Москва
184. ВОЗЛЕ ФОНТЕНБЛО
Обрывки проводов. Не позвонит никто.
Как человек, подмигивает мне пальто.
Хозяева ушли. Еще стоит еда.
Еще в саду раздавленная резеда.
Мы едем час, другой. Ни жизни, ни жилья.
Убитый будто спит. Смеется клок белья.
Размолот камень, и расщеплен грустный бук.
Леса без птиц, и нимфа дикая без рук.
А в мастерской, средь красок, кружев и колец,
Гранатой замахнулся на луну мертвец,
И синевой припудрено его лицо.
Как трудно вырастить простое деревцо!
Опять развалины — до одури, до сна.
Невыносимая чужая тишина.
Скажи, неужто был обыкновенный день,
Когда над детворой еще цвела сирень?
1940
185. «В лесу деревьев корни сплетены…»
В лесу деревьев корни сплетены,
Им снятся те же медленные сны,
Они поют в одном согласном хоре,
Зеленый сон, земли живое море.
Но и в лесу забыть я не могу:
Чужой реки на мутном берегу,
Один как перст, непримирим и страстен,
С ветрами говорит высокий ясень.
На небе четок каждый редкий лист.
Как, одиночество, твой голос чист!
1940
186. «Был бомбой дом как бы шутя расколот…»
Был бомбой дом как бы шутя расколот.
Убитых выносили до зари.
И ветер подымал убогий полог,
Случайно уцелевший на двери.
К начальным снам вернулись мебель, утварь.
Неузнаваемый, рождая страх,
При свете дня торжественно и смутно
Глядел на нас весь этот праздный прах.
Был мертвый человек, стекла осколки,
Зола, обломки бронзы, чугуна.
Вдруг мы увидели на узкой полке
Стакан и в нем еще глоток вина…
Не говори о крепости порфира.
Что уцелеет, если не трава,
Когда идут столетия на выруб
И падают, как ласточки, слова?
1940
187. У ПРИЕМНИКА
Над крышами Парижа весна не зашумит,
И жемчуг не нанижет кудрявая Мими.
Средь темной ночи слышишь (а ночь давно
мертва),
Как умирают мыши и как растет трава.
И равнодушно диктор, не рад и не сердит,
На десяти языках о смерти говорит:
Как тонут тонны боли, как выполот народ,
И трупы — это только торговый оборот.
Но вдруг, как моря склянки, для мира и для нас
Кремлевские куранты вызванивают час.
Ты, может, из театра сейчас идешь домой…
И как мне непонятно, что этот город — мой,
Что над часами звезды, что я еще живой,
Что даже черный воздух становится Москвой!
Часы всё ближе, ближе, они томят меня.
Над крышами Парижа ни звуков, ни огня.
1940
188–195. ПАРИЖ, 1940
1. «Умереть и то казалось легче…»
Умереть и то казалось легче.
Был здесь каждый камень мил и дорог.
Вывозили пушки. Жгли запасы нефти.
Падал черный дождь на черный город.
Женщина сказала пехотинцу
(Слезы черные из глаз катились):
«Погоди, любимый, мы простимся», —
И глаза его остановились.
Я увидел этот взгляд унылый.
Было в городе черно и пусто.
Вместе с пехотинцем уходило
Темное, как человек, искусство.
2. «Не для того писал Бальзак…»