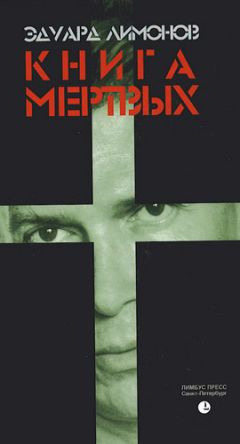Эдуард Лимонов - Атилло длиннозубое
Металлических черных штормов
Только три моряка в обращеньи,
А одиннадцать в пастях богов…
* * *Фифи
Подружку жду из-за границы.
Где ты, любовница моя?
Должна бы завтра приземлиться…
Мой орган, бешено стоя,
Меня смущает как мужчину
В преклонном возрасте уже.
Я представляю: «суну, выну»,
И голую, и в неглиже…
Мне стыдно, приезжай скорее!
Остановить чтоб мой раздрай.
Дочь белорусского еврея
И мамы родом: Пермский край…
Была ты в Осло, Барселоне,
Ты путешествуешь как бес,
Как можно жить в подобном тоне,
Неделями чтоб девки без?
Художник из Парижа
С утра мелькает шляпою расхожей,
Заводится от прожитых чудес,
Приехал! И колесами в прихожей
Тележки, заостряет букву эС.
Он прилетел из нудного Парижа.
Возможно, у него большая грыжа,
Скорее же он ходит грыжи без…
Но замедляет каменные ноги…
Я не скажу «у смерти на пороге»,
Но статуса перемещенных лиц
Мы с ним давно уж удостоили-с…
Художник, книгу заложив ножом,
Ест курицу и помидор зеленый,
А я гляжу… Вот, пылью утомленный,
Он кажется мне шаржем, нет – шаржом
На положенье и мое. В квадрате…
Я лишь стройнее и многоволос…
Он мог бы малевать бы на Арбате,
Но вот ему в Париже привелос…
Поверь мне, Сашка
Дочке Саше
Кокто, волнообразный Жан,
Для общей массы парижан
Так неизвестным и остался.
Но в мире полусвета, где
Кокто был рыбою в воде,
Жан крайне громко раздавался…
Кокто смеялся, он кривлялся,
А Жан Марэ его любил,
Марэ он страстно отдавался,
А после – раненый ходил…
Надели глянец на героев:
Коктейли, слава, синема.
На самом деле их, изгоев,
Не знали в Paris-Panam(a) [1] .
На самом деле лишь нацисты
И знаменитые воры
Сумели страстны и игристы
Взорвать мозги своей поры.
Послевоенная же бражка,
Где каждый третий – гей иль блядь,
Нет, не могли, поверь мне, Сашка,
Парижский люд собой пленять…
Возникшая на фоне капюшона.
Идет в чулочках белого нейлона.
Добыча педофила-маньяка.
Как ангел, и как перышко легка…
– Как Вас зовут, тревожная конфетка?
Куда идете? – спросит серый волк.
– А я иду, свободная нимфетка,
На ног нейлон спадает платья шелк.
– Я укушу Вас, можно? – Можно-можно!
Вы можете меня и покусать! —
Волк пахнет мазью, лыжной и сапожной,
А я учусь, способная, на «пять».
В бинокль
Индустриальный грохот слышен
В мое открытое окно.
Июль асфальтом жарким пышет,
В глазах от солнца мне темно.
В большую бабу лифчик впился,
Ее разрезали трусы,
И город предо мною лился,
Все его, восемь, полосы.
Туда – четыре, и обратно.
Еще и боковые два!
По ним авто, стремясь отвратно,
Передвигаются едва…
Часов неслышные трофеи.
Мы – жертвы мировой жары.
Если подумать – все евреи,
Или большие комары…
Капризный гений прихотливый,
Я – леший Финского залива,
А Вы – русалка из Невы.
Сквозь мусор плаваете Вы,
Скользя над банкою консервной,
Над костылем и прочей скверной, —
Колес, кастрюль, велосипедов
Эпохи прадедов и дедов.
Поранить Вас грозит вода,
Так выходите из туда!
И к лешему на грудь спешите.
Ну вот, Вы, девушка, дрожите!
Вас крепким потом отпою,
Русалку склизкую мою,
Подругу страстную событий
Между приплытий и отплытий.
Под сладострастный плоти зов,
Под капитанский шелк усов,
Под стон рыдающей кровати,
Под грузом одеял на вате,
Под менструацию в крови,
Под мощные толчки любви,
Трагедией в районе лона,
Как и сейчас, во время оно,
Мы наслаждались горячась,
Всегда куда-то торопясь…
Чтоб пеною шипящей слиты
Колени, бедра и ланиты,
Мельканье юбок тут и там…
О, как люблю я этих дам!
Поверженных, со щелью голой,
С улыбкой сильной и веселой,
Во взбитых набок волосах,
Тех, без трусов, и тех, в трусах.
Под сладострастный плоти зов
Аристократов и низов…
Ересиархи
Нечесаные пророки,
Глазницы у них глубоки.
Симон, Маркион, Мани…
За ересью Оригена,
Возможно, видна Геенна,
На огненную взгляни!
Патлатые и босые,
Пророки, как домовые,
Стоят у седых колонн,
Ютятся в сырых пещерах,
Кричат со столпов о верах,
Симон, Мани, Маркион…
Летит над Иерусалимом,
Рептилий и птиц помимо,
Оскаленный Симон-маг!
Но Петр своим лазерным взором,
Следящий за каскадером,
Сбивает его рейхстаг!
О, гностики, желты, сизы,
Замшелые, как карнизы,
И ржавые, как Вавилон,
Пыльные, как растафаре,
Шумные, как на базаре,
Апокрифы, не канон…
Жизнь тревожна. Разве нет?
Вот сейчас потухнет свет,
Электричество исчезнет.
Умер ведь Назым Хикмет,
Вот-вот Кастро волнорезнет…
Жизнь тревожна. Света нет,
Газ по трубам не втекает.
Даже чаю не бывает,
Если чай не подогрет.
Разводить костер в квартире?
И приходится сойти,
Во дворе, в убогой дыре,
Огнь домашний развести…
Нащипать оконной пакли,
Наломать сухих оград,
Вырубить дворовый сад,
Апокалипсис, не так ли?
Будем жить. При немце жили…
И, землянок накопав,
Еле дух переводили,
Все же не откочевав.
Хотя нужно бы, на юг.
Ты мне недруг, а не друг,
Потому войду я в доли
С тем, кто нес мешок фасоли,
Кто имеет соли пуд…
Ну и будет мне зер гуд…
Вопросы к Создателю
– Когда варил из Хаоса планеты,
Вычерпывая, как хохол, галушки
Из их небесной, что без дна, кадушки,
Был ты один? – Изволь держать ответы…
– Когда ты острова на воды ляпал,
Как будто бы на сковородку тесто,
И каждому определилось место,
Когда с высот ты их на воду капал…
– Ты все один был, совершая это?
Или тебя сопровождала свита
Из пауков железного скелета?
– Скажи, кусок вселенского бандита!
Когда ты человека сотворяя,
Из красной глины замешавши тело,
Вдруг наклонился, дух в него вдувая,
Ты знал, что совершаешь злое дело?..
На смерть хрущевки
Здесь экскаватор, бьет дубиной
Он по хрущевке, бесноват…
Пятиэтажной бор-машиной
Здесь недра мокрые бурят…
А я стою и наблюдаю,
Пацанчик в шестьдесят семь лет,
Как сносят дом. – Какого чаю?
Вам дом мешает, педсовет?!
Рукой железной, трехсуставной,
На птицу древнюю похож,
Здесь экскаватор, Идол главный,
Весь в зубьях его страшный нож.
Гребенкой мощною ласкает
Он череп здания слегка.
И тем былое разрушает,
И падает он свысока,
Как гильотина на француза,
Будь ты Дантон, иль Робеспьер…
Но дом советского союза!!!
Я прошептал: «Простите, сэр!
За этих варваров удары,
За дикарей слепой порыв».
Не могут Вани-комиссары
Придти на помощь, расстрелив
Усатого бульдозериста,
Прорабов трех и двадцать пять
Узбеков, и таджиков триста.
«Простите, сэр Хрущев опять!»
О, инкубатор плодородный!
Хрущевка славная вовек.
В ней зачали в былые годы
Немало русских человек!
Я старый философ, на гибель богов
«Титаника» гибель похожа.
Страшнейшим, могучим тайфуном без слов
Из Вагнера льется тревога…
В пробоины бьет, сногсшибая народ,
– Прощайте, друзья-пассажиры! —
Вот юная леди, ломаясь, плывет.
Злой айсберг наносит им дыры…
И Вагнер, и Вагнер, и Вагнер притом…
«Титаник» – как утлая лодка
Колышется и загребает бортом.
Ди Каприо сценой короткой
Заставил заплакать весь зал в темноте,
Холодная крутит пучина.
И Вагнер, и Вагнер… Во всей красоте…
С зловещей улыбкой мужчина
Над волнами после летал не спросясь,
И выл, и жужжал, и смеялся,
Пока, в непроглядную бездну стремясь,
«Титаник» во тьму опускался…
Я старый философ, на гибель богов
Такой равнодушно взирает.
Как над океаном, тяжел и багров
Рассвет не спеша наступает…
Луна
Сидел и ел, луна светила
И полнолунием была,
Тарелку супную солила
Своей сметаною дотла.
И этот глянец погребальный,
И этот погребальный крем
Напоминал, что Рим тотальный
Собою начал агнец Рем…
Потом был Рем уже немецкий,
И Гитлер Ромулом другим,
Рейх основавши молодецкий,
Расправился проворно с ним…
– Луна не это намекает!
– А что ты знаешь о Луне?
Там механизмы промокают
На нам невидной стороне.
Для пересадок там площадка —
Цивилизаций след иных,
Иного, высшего порядка,
Помимо умыслов земных.
Не для того, чтоб любоваться
Луны кладбищенской красой,
Чтоб было легче добираться
Нам во Вселенной небольшой, —
Луна основана подручно
На четверть, или часть пути.
И менструируют беззвучно