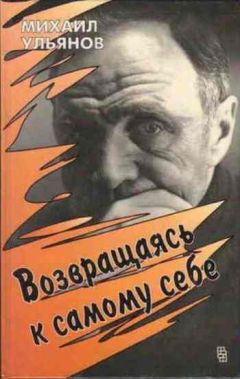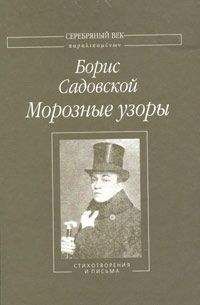Борис Нарциссов - Письмо самому себе: Стихотворения и новеллы
ГОЛОСА
Вторая книга стихов
(Франкфурт-на-Майне, 1961)
И в бесконечном отдаленьи
Замрут печально голоса…
А. Блок
Женевьеве де-Шеллис
Уже все знали: не выжить,
Но еще по привычке спасались
Вштольнях глинисто-рыжих,
Глубоко под землей. Но анализ
Дал результат: «смертельно»,
И все побрели под звезды.
Только я остался бесцельно
Бродить по ходам промозглым.
Еще электричество было,
И вдруг я увидел, что стены
Кипят муравьиною силой:
Из трещин выходят, как пена.
Я понял – конец. И скоро.
И надо к людям, наверх мне.
И странно – в пустых коридорах
Заблудиться боялся я, смертник.
Наверху были сумерки. Тучи
Были сизо-свинцовы и вески,
И по ним свеченьем бегучим
Возникали белесые блески.
Бородатый священник устало
Спускался к дощатым баракам.
Я пытался сказать ему: «Стало
Совсем как в Писании – мраком…»
«Апокалипсис…Да…» Он не кончил
И ушел понуро на требу.
Ощутимо тоньше и тоньше
Становилось время, а с неба,
Расплываясь, слабо, но внятно,
Точно в погребе пухлые цвели,
На свинцовом белесые пятна
Ядовитого света серели.
Очень черные глыбы и клубы
Вспухших сажею облаков.
Тихо. Ночь наступила игубы
Сжала плотно на много веков.
В небе диск воспаленный и красный –
То, что раньше называлось луной,
Роет путь в облаках и гаснет,
Кроет кровь на лице пеленой.
Снова выйдет и светит неверно
Вниз, на камни, обломки и рвы,
Мертвый город в черных кавернах –
Тех, что выел последний взрыв.
Он начался, как все предыдущие,
Обычной спешкой: поскорее, бегом…
И день-то был тоже, в сущности,
Обычнейшим вторником или четвергом.
Там, где была весна, было пасмурно,
И пахло почками тополей.
И не думал никто, что насморки
Были последними на земле.
Правда, собаки выли перед этим
И поэты писали стихи.
Но кудлатым псам и кудлатым поэтам
Не было кредита в оценке стихий.
И вдруг, внезапно, около одиннадцати.
Всё перестало существовать:
Ничего и пусто. А души вынутые
Зеленели слабо в пустоте естества.
То была благостность Промысла,
Чтобы не мучить ожиданием конца:
Электроны, планеты и всё прочее бросила
И в миг растворила под ногами жильца.
И когда всё было разрушено
И, как путь, зазмеился замирный дым,
То пошли по пути зеленые душеньки
Вверх и вниз, по делам своим.
Был мир как обшлаг брандмейстера:
Красное с золотом пополам
На фоне кромешной тьмы,
Склеенный лавовым клейстером
Из огненных орифламм.
А мы
На совсем минеральной ступени
Предавались космической лени.
Даже ангелы были растенья.
Но, архангелом мучим,
Орал минерал
И карабкался к огненным кручам.
Это – первый эон. А в хвосте – еще шестеро.
Был мир как мечта брандмейстера.
Всё пошло хорошо: наслоялись грузно периоды;
Поглядишь: тилозавра выудит
Из морей какой-нибудь бронтозавр.
А не то – с гиппогрифом выедет
Неподкованный ражий кентавр.
Но потом появился некий,
Имеющий узкий лоб.
Расплодился в щелях, как клоп, –
Съедобный, – от смерти отнекивался
И портил хороший космос:
Сначала в горилловых космах,
Потом – без штанов, но в тогах,
Потом – в штанах, но без тог.
Таща себе на подмогу
Всё, что зацапать мог.
И вот, без особого плана,
Уверяя, что сам с усам,
Трефовою мастью аэропланов
Козыряет по небесам.
Но, с мудростью агнца и кротостью змия,
Не видит, что всё это – зря,
Тонкой и пламенной стихии,
Из которой создан, не зря.
– Оттого, что текут эоны,
Для нас неслышно звеня,
И, как было во время оно,
Притекут пред Лице Огня.
Марине Красенской
Вечерами, ночами, в затишьи,
И в молчаньи, – когда я один.
Утомленной душою я слышу
Отдаленный призыв из глубин.
Это тот, кто не ведает смерти.
Отряхает рожденья покров
И в душе потревоженной чертит
Отраженья несознанных слов.
И в предчувствии вечной свободы
От земной и бескрылой души
Слышу: бурные, мощные воды
Из глубин набегают в тиши.
Далеко, в глубине – «погибаю…»
Нагибаюсь я слышу – во мне.
Но завесами – мгла голубая,
И не видно мне – кто в глубине.
«Срок приходит, и времени мало…
Торопись: надвигается ночь…»
Но не знаю я – кто там в провалах,
И не в силах я, слабый, помочь.
Только чувствую: близкий и нужный.
Только знаю, что скоро замрет.
И опять из туманов жемчужных
Обреченный на гибель зовет.
– Кто ты, голос настойчивый? Где ты?
– Кто ты, житель моей темноты?
Только эхо. Ни звука ответа.
Только эхо, придушенно: «Ты».
Но зловещий восходит угар К небесам. К высоте. К чистоте. А. Блок
Серафиму дано было бремя:
Искуситься в земном житии,
Позабыть на короткое время
Белоперые крылья свои.
Но телесные путы опасны:
Душной кровью туманится дух,
И над плотью, желанной и страстной,
Снег колеблет свой синий воздух.
Он такой же – взгляни – на портрете:
Светел лоб и греховны уста.
Мы читаем: боренье в поэте,
Плоть-угар и душа-чистота.
А стихи, – позабытые крылья, –
Не умеют набрать высоты.
И ты видишь: напрасны усилья
Воспарить от земной маяты.
Белая царевна в саркофаге,
Черная и спящая душа.
Добрые и солнечные маги
К ним пока на помощь не спешат.
В бархатных распластанных воскрыльях,
Траурная бабочка души,
Вздрагивай в томительных усильях,
Но проснуться лучше не спеши:
Падают сиреневые хлопья
Театральной борной кислоты.
Злая отравительница опий
Смешивает с синью темноты.
Холодно в синеющих просторах
Музыки, мятели и зимы.
Бейся на настойчивых повторах,
Бабочках таинственная тьмы!
– Память навсегда запечатлела:
Спящую царевну на снегу,
Балерины бьющееся тело
И тоску движенья: «не могу».
В ненастоящем времени, не тут,
Растут несуществующие рощи.
Там нам подобные живут.
Они стремительней и проще.
Сойдутся девы в хороводный круг
И горестно, в смятении великом,
Мольбы с заламываньем рук
Возносят Каменному Лику.
Но имя лику – Рок. И он горой
Вздымается над мерным плачем тристе.
И непокорен лишь герой,
Нагой и в мускулах бугристых.
Он пальцами впивается в гранит,
Ломает ногти, напрягает спину:
Повержен идол, и гудит
Внизу падения лавина.
По лаврам розами горит венок:
Он в лоб герою тернии вонзает.
И это снова – новый рок.
Но этого герой не знает.
В сине-черном сначала – ни зги.
A потом колыхнется прилив,
И прибоя белесый изгиб,
И течений подводных извив.
И оттуда большой и крылатый
Негодует на путы и рвет
Их с себя, но расплата –
Это камень на грудь, это – гнет.
И гнетут облака точно плиты,
Слой за слоем ложатся и душат,
И с волнами свинцовыми слиты
Небеса и чуть видная суша.
Нов потемках свобода – как молния,
И – разгневанным громом в ответ.
А глаза вдохновенья исполнены.
Оттого что страдания – нет.
Это – крылья огромные скованы…
Это – рвутся они из-под бремени…
Я крутил конденсаторы времени
И случайно попал на Бетховена.
Тонкие ветки, серебряный иней.
Свет неземной, заколдованный, синий.
Жемчуг, сапфиры и бледный опал
Светят в парче снеговых покрывал.
Полной луной зачарованы ивы.
Видно далеко-далеко с обрыва
Черные тени на синем снегу,
Празелень льда на речном берегу.
Добела кем-то в выси накаленная,
Выше и выше, в пространства бездонные,
В сизую глубь уплывает луна.
Слышно, как светом поет тишина.
Рот земли пересох,
Стал рассыпчатым мох,
И стеклянное марево зноя
Нависало завесой сквозною.
Над овсом молодым
Засинело, как дым.
Поседело у солнца косматого,
Побледнела жара виновато.
И раскрыла глаза
Голубая гроза:
Как взмахнет, как блеснет, да как ахнет,
Как их тучи каленым запахнет!
И, сорвавшись, как конь,
В обомлевшую сонь,
Закрутил и помчался клубами
Дикий ветер далекими ржами.
Преклонилась трава
И шептала слова,
А над ней, как чугун, и свинцово
Набухало прорваться готовым.
Позабудь про людей, про их лица,
Чтобы видеть единственный Лик:
Капля с морем, – ты можешь с ним слиться,
И увидишь: ты тоже велик.
Уходи, и иди, и исчезни
За крутыми излобьями гор.
На тебя Седокосмое в бездне
Устремит испытующий взор:
Из-под сизых, насупленных – серным
Ослепительно взглянет излом.
И, как зверь черно-бурый, пещерный,
Прорычит потревоженный гром.
Ты увидишь на глинистых скатах,
Остановленный быстрой рекой,
Многоцветные славы закатов
И ночной синезвездный покой.
Ежедневное чудо восхода
Для тебя одного совершат,
Чтобы знал ты, что синему своду
И светилам ты – названный брат.
……………………………………………
Ранним утром туманы застелются,
И, взглянув на седые поля,
Ты услышишь, как грузно шевелится,
Просыпаясь, земля.
Игрушкой хрупкой счастье наше
В хрустальном ящике живет.
Но черный ветер в окна машет
И ночью плачет и зовет.
Тогда грядущую потерю
Определяет сердцу рок,
Но сердце бьется и не верит,
Пока не наступает срок.
Ведь ты случайно сам забудешь
Плотнее притворить окно,
И ты нечаянно разбудишь
Слепых причин глухое дно.
И слишком тонкой нитью свяжешь
Ты створки ставень за окном.
А нить того, что будет, та же,
Тонка и связана узлом.
И он ворвется, ветер колкий,
И хлопнет рамой, дернет нить…
Игрушки хрупкой нет. Осколков
Не собирай: не починить.
Воды холодного света
С силою бьют с вышины.
Льется в мансарду поэта
Синяя зелень луны.
Вот уж ты больше не юный.
Вот отлюбил и затих.
Холодом осени лунной
Светит оброненный стих.
День или год понемногу
Канут, пройдут, – не вернуть…
Длинной, пустынной дорогой
Виден твой пройденный путь.
Сон о чужом человеке –
Прошлое. Это не ты.
Что растерял, то навеки
В лунных полях пустоты.
Это – безжалостность света
Полной осенней луны
Льдом, засветившимся где-то,
Льется в окно с вышины.
Я видел странный сон: в пещере,
В зеленоватом сумраке, цвели
Седого инея изогнутые перья
И ледяные хрустали.
Как свет луны молочно-синий,
Как зелень бледная морских глубин,
Холодной музыкой огней в аквамарине
Струились переливы льдин.
И в тишине из подземелий
Оранжевым и острым языком
Вздымался и плясал, как в бешеном весельи,
Немого пламени излом.
Я заблудился в запредельных странах,
И мной, безвольным, овладели сны.
И я увидел в прорванных туманах
Пустую даль безрадостной страны.
С безжизненным отливом тусклой стали
Катила воды мертвая река.
Скупые слезы медленно роняли
Усталые седые облака.
Я знал, что солнце никогда не брызнет
Над спинами нагих и плоских скал.
И понял я: твоей бесцельной жизни
Течение в пространствах я видал.
Я видал удивительный край –
Оглушительно-радужный рай:
Водопады и пропасти, алый туман.
Переливы торжественных фата-морган.
Как комет бирюзовых хвосты.
Перекинуты были мосты,
И по ним, как по звонкому синему льду.
Я, мерцая, скользил со звезды на звезду.
От сверкающих радостных дуг
Возникал ослепительный звук.
Каждый цвет волновался, струился и пел,
Каждый звук был подобием огненных тел.
И текли, и журчали года,
Как в реке незаметно вода.
Эту смесь алкалоидов я изобрел.
Это был только шприца короткий укол.
В подземной железной завелся вампир,
Ухмылялся в небритую бороду:
– Ну, и если когда пропадет пассажир,
Так и кто их считал там по городу?..
Средь подобных себе был в повадках новатором:
Не боялся толпы, залезал под вагон,
Чтобы скрыть, кто такой, вентилял в стрекотаторе
И железным визжал, набирая разгон.
Раз завелся, то, значит, так просто не выживешь:
Это он, нагружаясь на плечи, как кладь,
На стене оставляет разводами рыжими
Уговоры о том, как смертельно устать.
Подколесная тень, кувырком, схожий с крысой сам,
За тобой он – под ноги, вдогонку, в пыли…
Ты, усталый, приходишь домой. Но ты высосан,
Как и прочие – те, что его завели.
Апрель гудит охрипшим басом,
Аккомпанируя себе
На водосточной, час за часом.
Звенящей жалобно трубе.
Зернистый снег гниет за домом,
Питая лужу у крыльца.
Но непреложная истома
В свистках влюбленного скворца.
И скоро будет шум зеленый
И буйной вишни молоко:
Увы, обман определенный,
Что жить приятно и легко.
Сначала грубые куски
В изломах тускловато-сизы.
Но пламя лижет им виски
И под котлом их дразнит снизу.
И вот, сверкает, рождено,
И радугой играет в зное
Из мира черного окно,
Великолепно-смоляное.
Газетчику захватит аль
Всемирно-едким нафталином:
Се, улиц летних царь, асфальт,
Стекает тягостно и длинно.
Был ветер пес. А осень-мясничиха
Дорезала и клены, и закат.
Подвыв, кидался ветер лихо
С полей наскоком в гиблый сад.
Свисали с сучьев красные лохмотья,
И сизым мясом блекли облака.
Сцедила кровь: конец работе.
А псу бы лужи долакать.
Листве догнить. Сметет тупая сила
Ее в промозглый, плесневый подвал.
Ушла. И лампу погасила.
А ветер сучья оглодал.
В отчаяньи холодными руками
Рвет ветер волоса земли – леса.
А из-под туч, тяжелых, точно камень,
Как плач, гнусят вороньи голоса.
Был снег как снег. Но, оттепель устроив,
Ни удержу не зная, ни границ,
Зима перестаралась вдвое, втрое
И, захлебнувшись, пала ниц.
Течет дорога жидкой сукровицей.
И на подстилке прошлогодних трав,
Бельем остатки снега разметав,
Валяется зима-самоубийца.
Черный и головастый, в короне кургузой,
Самый высокий из всех фигур,
Он блистал лакированным пузом
Средь коней плясовитых и грузных тур.
Тон его сначала был гордый:
«Два шага в сторону! Шаг вперед!
Позицию в центре держите твердо!
Пешка гибнет, и другая берет!»
На доске возникает напряжение,
Фигуры источают линии сил.
Гибкая сеть защит и нападений
Паутиной на ветру висит.
Но зазвучала тревожная нота
И превращается в трубный вой:
Квадраты доски – как пчелиные соты,
Куда ворвался враждебный рой.
Кособоко, двумя прыжками
Хитрый конь
Объявляет шах.
Удары косо и прямо;
За смертную грань задев,
Король хочет в сторону. Ах!
По линии f
Анфиладный огонь!
Издалёка напрасна на выручку спешка.
«Милая королева! Помогите же, наконец!»
Ох, больно бодается рогатая пешка…
Плебейской рукой – королевский венец.
Замигала, проснулась звезда изумрудная
В темно-синем квадрате стекла.
Вы сейчас услыхали: как смерть, непробудная,
Тишина по углам залегла.
В этот час возникает над черными крышами
Желто-красной луны полукруг,
Паутину плетет меж ветвями нависшими
И таится в листве, как паук.
Непонятной, таинственной, тонкой отравою
Осторожно звенит тишина.
Вы боитесь уснуть оттого, что кровавая
Над садами свисает луна.
Ты рождена под светлым знаком Девы,
Под серебристо-белою звездой:
Под ковшиком Медведицы, налево,
Ее находят раннею весной,
Когда хрустит хрустально-чистым звоном
На талых лужах тоненький ледок,
Когда так нежен свет луны бессонной
И молодой весенний холодок.
Тебя не знаю. Образ твой далекий
В моей душе с такою ночью слит,
И лунный свет, и отзвук одинокий
Моих шагов по камню стертых плит.
Я люблю тебя, чужестранец,
За озера холодные глаз
И за то, что бешеный танец.
Я в их глуби видала не раз.
– Быстроводны холодные реки
В моей родной стороне,
И, должно быть, осталась навеки
Эта дикая воля во мне?
Волоса, твои мягки и тонки,
Но ты мягче своих волос.
Ты похож на большого ребенка
В плену моих черных кос.
– И пахучи, и тонки травы
В моем дремучем краю,
И, должно быть, они отравой
Напоили душу мою.
Но душа твоя, о любимый,
Непонятна, темна и страшна:
Точно туча, висит недвижимо
Над моею душою она.
– Тех, кто в скорбные годы заката
В обреченной земле рождены,
Всё равно не поймешь никогда ты,
Ты, дитя счастливой страны!
Ее одежды из тумана
И запредельной синевы,
И ночь течет за тонким станом.
И бледен свет вокруг главы.
Ее глаза полузакрыты:
Она извечно в полусне.
Планетной вязью перевиты
Ее шаги по глубине.
Неуловимо-тонкой тканью
Ее окутал звездный свет.
Она скользит по самой грани
Того, что – есть, того, что — нет.
И ей оттуда лучше видно,
Как нити жизней сплетены.
И вот, – молить ее не стыдно
О том, чтоб цепкий свет луны
Завил и сплел две нити вместе
В каких-то глубях бытия
И к нам пришел с чуть слышной вестью,
Что эта нити – ты и я.
В альпийских глетчерах пещеры
Сквозят глубоким синим льдом,
И камень древний, камень серый
Для льдов воздвиг свой строгий дом.
По камню горные потоки
Стремят взволнованный сафир,
Как бы разбитый гневным роком
Небес лазоревый потир.
И я люблю, когда во гневе
Глубоким льдом блеснет твой взор,
Как небо в грозовом запеве,
Как рябь встревоженных озер.
И я люблю – подобны льдине –
Твои бездонные глаза,
Когда сквозь лед сияньем синим
Сверкнет альпийская гроза.
На севере сосны, и море –
Как викингов серая сталь
Тут море и небо не спорят:
Всё – теплая, синяя даль.
На севере тяжкие камни
Затупят мечи на излом.
Тут белая глыба легка мне
Под бронзовым верным резцом.
Я – варвар, ваятель в Элладе,
И тело чужой красоты
Резец мой ласкает и гладит,
И это – из мрамора ты.
Закрылись глаза и открылись:
Я – северный варвар опять.
И узкие брови, как крылья, –
– Тебе при свиданьи поднять.
В столетье машинного лязга
У глаз твоих снова воскрес
Такой, как на вазах пелазгов,
Овальный микенский разрез.
И смуглое тело Мелитты
В тебе вспоминается мне
Видением старого Крита
В открытой Колумбом стране.
Вечерами бывает,
В октябре, в листопад:
Принахмурит по краю,
И леса загрустят.
Но на самом закате
Вдруг прорвет облака,
И березы охватит
Ветровая рука.
И смеется, и рада,
И лепечет слова,
Золотым водопадом
Опадая, листва.
Так, при самом прощаньи
Ты, взметнув головой,
Вся оделась сияньем,
Как береза листвой.
И вот, в сумерках светят
До сих пор с того дня,
По плечам точно сети
Из живого огня,
Как в осеннем пожаре
На закате леса,
Золотой Ниагарой
Мне твои волоса.
Волны и ветер в бреду,
В ропоте вечного горя.
Черным монахом приду
На берег дикого моря.
Будет светиться в потемках
Белая пена у ног.
Черным, иссохшим обломком
Рухну тогда на песок.
Черная женщина-ночь
В сизых туманах возникнет.
Сердце подскажет мне: «прочь!»
– Сердце!Молчи и привыкни…
Будут нестись над водою
Крики последней тоски.
Черный, я тенью худою
Скоро приду на пески.
На небе, мутном и черном,
Редкие проблески звезд.
С Берега Смерти упорно
Тянет холодный норд-ост.
Цели былые – забыты.
Путь по течению вод.
Острая стрелка магнита
К полюсу жизни ведет.
Скоро в тумане забрезжат
Темные камни земли.
Там, у скалистых прибрежий,
Тонут во мгле корабли.
На небе, мутном и черном,
Тусклые проблески звезд.
С Берега Смерти упорно
Тянет холодный норд-ост.
Искривленные щупальца сучьев
Протянулись к озябшей луне.
Острый ветер, деревья измучив,
Их оставил в томительном сне.
Но, одетая саваном белым,
От земли отвернулась луна.
Между ними без дна и предела
Голубая легла глубина.
Воздвигается выше и выше
Погребальных туманов опал.
Ты меня никогда не услышишь,
Как бы горько тебя я не звал.
И меня будешь вечно ты мучить.
Так застыли мы в нашей судьбе:
Я – бессильные, мертвые сучья –
Протянулся в пространство к тебе.
1
О сновиденьях, о бериллах
Холодных глаз, о топких мхах,
Об одержимых лунной силой,
О лунной деве в дальних льдах.
Не вызывай ее ночами, –
Взгляни на прелесть дев земных.
Предай забвенью и молчанью
Свой сон, о, бедственный жених!
Сквозят зеленым светом льдины,
Горит Полярная звезда.
Движеньем ласково-змеиным,
Как ртуть, колышется вода.
Кругом леса из черных елей
И мхи заржавленных болот.
По ним безвольно к дальней цели
Лунатик брошенный идет.
Но чащи хмуры и дремучи.
Но топи спрятались и ждут.
В постели тинной и зыбучей
Лучи луны его найдут.
Его зрачки с немым укором
Блеснут холодным светом в них:
Так бесконечно-долгим взором
С Невестой встретится жених.
С каждым годом туманы забвенья
Беспросветнее ткут свой покров.
Отголоски и бледные тени –
Это всё, что осталось от снов.
Вот и я заблудился, лунатик,
В этом мире, как в темном лесу.
Только память о давней утрате,
О тебе, сохранил и несу.
Безотраднее сумерки бора…
В них мне чудится чаще твой лик…
Я устал. Это значит, что скоро
Будет страшный и радостный миг.
Ни тела радости, ни сладострастья
И ни твоих сведенных страстью рук:
Мне жаль иной, вотще желанной власти,
Мой незабвенный и забытый друг.
Над зимним морем ветер нас оплакал
Соленой пылью с мокрых, хлестких крыл,
И парк ненастный гулким влажным мраком
Тебя навеки в этот вечер скрыл.
Забвенье: чище звуки, суше краски.
В годах всё ближе малый холм земли.
Мне жаль небывшей нежности и ласки:
Того, что дать друг другу не смогли.
Фонари не светили в тот вечер:
Ветер тьмою себя оперил.
Исступленный, холодный, как глетчер,
Бил огромными взмахами крыл.
Над иглой островерхой костела
Выгибался Медведицы хвост,
И запутались в черных и голых
Сучьях сотни встревоженных звезд.
К твоему опустевшему дому
Вел гипнозом невидимый след
Сумасшедший надежды: в знакомых
Окнах будет оранжевый свет.
Но, взглянувши случайно но запад,
Где в золе дотлевала заря,
Я увидел, как сизые лапы
Хищной тучи над миром парят.
И я вспомнил тогда, что ведь это
Совершалось однажды во сне:
Так же с запада крался одетый
В погребальное облако снег,
Так же с неба сверкали сквозь ветви
Мириады встревоженных глаз,
И кричал обезумевший ветер
О потере – совсем как сейчас.
А сейчас – разве вправду я мерзну
В одичавшем от ветра саду?
Разве это не сон, что всё поздно,
Что тебя потерял я и жду?
Осторожные сумерки мутною
Паутиной наткали углы.
Серый ангел подходит и кутает
Мне глаза пеленой полумглы.
Тучи на небе брошены ворохом,
Полегли и слезятся дождем.
То ли шелесты слов, то ли шорохи…
Этот шепот мы в сумерки ждем:
Бесполезно вставать побежденному.
Откажись от ненужной борьбы –
Всё равно, не уйдут обреченные
От незрячей железной судьбы.
Мы окончим желанной развязкою:
Да пребудешь недвижен и тих.
Разве ты не почувствовал ласковых.
Холодеющих пальцев моих?»
Серый ангел нежнее склоняется.
Сыплет пепельный сумрак вокруг.
И мне слышно, как в сердце впиваются
Пальцы тонких, безжалостных рук.
Закрой глаза. Засни. И в этом
Тяжелом сне смотри в эфир:
Тывидишь мертвую планету,
Пустой, давно застывший мир.
Навеки черное молчанье.
В молчаньи грозно стынут льды.
В кристаллах льда на острых гранях
Дробится синий свет звезды.
Ты в мире радостном, как птица,
Взлетаешь в солнечном тепле.
Так вот, пойми: твой свет дробится
Звездою в ледяном стекле.
Травы курчавятся, склоны
Зеленью мягкой покрыв.
Тень от раскидистых кленов
Падает прямо в обрыв.
Дальше, в овраге, – пещера.
Корни пред входом, как сеть.
Сумрак таинственно-серый
Манит туда посмотреть.
Путник в пещеру заходит,
Нюхает запах земли.
Видит: под скошенным сводом
Складками тени легли.
Всмотрится в сумрак и ахнет.
Сердце в груди упадет:
Тусклые очи Арахны
Глянут из пыльных тенет.
Спавшее в черном колодце
Чутким охотничьим сном,
Грузное тело метнется
Членистоногим прыжком.
В ужасе путник не верит:
Бред этот слишком нелеп…
Путник! К паучьей пещере
Путь твой неволен и слеп.
Арсению Ивановскому
Все возвращается на круги своя Екклесиаст I, 6
Я знал: скорее из этого дома!
И я помню: схожу по ступенькам крыльца.
Почему-то мой двор мне стал незнакомым,
И в доме своем я вроде жильца
И надо уйти. Еще очень рано:
Сероватая мгла и рассвет в сентябре.
И как будто иду, и мне вовсе не странно,
Что длинный гроб стоит во дворе.
Трем женщинам в черном даю дорогу:
Они направляются прямо в дом,
В старомодных накидках, и шляпы их рогом
Торчат и притянуты туго платком.
Но я знаю одно– уйти мне надо,
И здесь я уже не жилец.
И, – конечно, – мой дом кирпичный и с садом,
А этот – дешевый и старый вконец,
И номер не тот, и улица тоже
Чужая совсем: названье не то.
Мне тут нечего делать. Прохожий,
Не заметив, задел меня краем пальто.
У вокзала мальчишка досасывал персик,
И листву метельщик высокий сметал.
«Что за город? Всё тот же: Трентон, Нью-Джерси…»
И голос его скрипел, как металл.
У него глаза как дыры смотрели,
Но я всё же спросил про число и про час.
«А всё то же, как было: восьмое апреля…»
– «Но сейчас ведь сентябрь!» – «То для них, не для вас…»
Я бежал – или плыл? – и догадка брезжить
Понемногу стала во мне.
Я бежал и старался ступать, как прежде,
Но не слышал шагов, как во сне.
ПАМЯТЬ