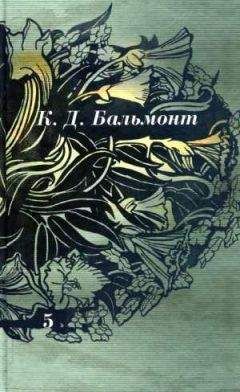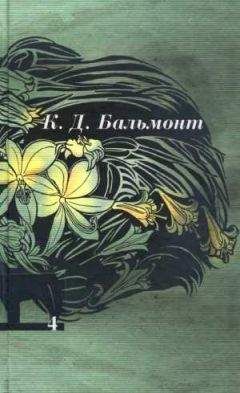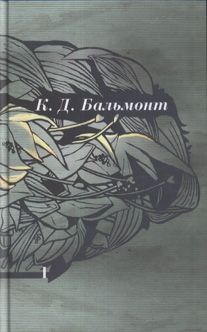Константин Бальмонт - Том 1. Стихотворения
переменить на бесцветное, но зато удобопонятное:
О домовитая птичка,
Любезна ласточка моя!
Как видим, Бальмонт в своих поэтических вольностях предстает законным наследником русской поэтической школы. Нет, Толстой не просто смеялся, так он пытался защититься от того тонкого яда, который чудился ему в «запахе солнца» современной ему литературы. Яд разрушения проникал во все и прежде всего в литературу. Алкогольные пары мучительного Эдгара, наркотические бреды Бодлера и «проклятых поэтов» порождали особенный и заманчивый мир, заставляя искать его искушений. Поиски эти иной раз доходили, особенно у Бальмонта, до шутейного абсурда. Борис Зайцев с удовольствием вспоминает, как поэт у него в квартире на Сивцевом Вражке, будучи в подпитии, пожелал читать свои стихи среди пальм и за не имением лучшего залез под стол. Вечно окруженный стайкой поклонниц, в слегка взвинченном состоянии, но при неизменно белоснежных воротничках, поэт был неподражаем в стихии подобных искушений, однако поиски его имели весьма ощутимые и яркие результаты. «Десять лет он царил над русской поэзией» – заметил Брюсов. Позднее подхватили, мол, и только! Да разве этого мало? Объективней был Вячеслав Иванов, когда говорил уже в двадцатых годах о секрете «…его нескудеющей и совершенно неоправданной тридцатилетней славы». Термин «неоправданной», как оказалось, преходящий, да и не в славе дело поэта. Интерес к Бальмонту после первых модных всплесков с годами выровнялся и сделался классическим. Секрет же его Вячеслав Иванов сам же и раскрыл: Бальмонт – наше эхо, как это и завещано поэтам еще Пушкиным. «Предо мною другие поэты предтечи». Как это раздражало! Но Бальмонт только не уточнил, что он не лучший, разумеется, но в чем его подлинное отличие от предшественников, – он сделал поэтическое слово звучащим, он вынес его на широкие подмостки. Он разъезжал с выступлениями по стране и за рубежом, и у него даже был свой импресарио. Программа называлась – «Поэзия как волшебство». Уточним – звуковое волшебство. Он подарил его нам. До этого времени поэзия звучала по-домашнему. Стихи читались про себя. Но вот жизнь принесла иное веяние и Бальмонт оказался из первых, кто сделал поэзию достоянием звука. Отсюда, а не от какого-то там декадентства так много в его стихах звуковых перекличек, «уклонов», – он их не открыл, он их озвучил, что и увенчало его заслуженными лаврами сначала скандальной популярности, а потом уже и славы.
Разумеется, поэт был опьянен своей славой, но и русская жизнь уже потеряла свою трезвость. Поэт увлекал, но и увлекался. Русское общество уже было разбито на всевозможные кланы, кружки, мистические академии. Передовые люди, как их привыкли понимать, кричали и ораторствовали громче всех, вульгарно воспринятое толстовское отрицание отрицанием и срывание масок переродилось в них в злобное негодование по любому поводу. А тут еще Ходынка и несчастное 9 января! Чье сердце не возмутилось бы? Кроме того, демократические тенденции, – да, но кто же против демократических тенденций, когда сам Пушкин завещал России крамольную «Вольность». Значит, это хорошо. И Бальмонт, не раздумывая, разразился «Песнями мстителя», которые неловко читать ввиду их слабости, фальши. Но кто в Ходынской беде повинен, когда сегодня люди то и дело насмерть давят друг друга на пресловутых дискотеках?! Впрочем, поэт сейсмограф лишь своего времени. «Поэтом можешь ты не быть», – этого, конечно, Бальмонт исполнить не мог, напротив, передовые журналы платили хорошие гонорары, и люди были все премилые. С какой душой Горький, быстро вошедший в силу на пожертвования того же Морозова, уговаривал Чехова разорвать договор с издателем Марксом! «Мы заплатим втрое!» и т. п. Хороший был организатор, этот псевдобосяк, как называли его Михаил Пришвин, Бунин. Обработанный пропагандой Горького, и Бальмонт, словно зажмурившись перед пропастью, «граждански восскорбел» о мифических «сознательных смелых рабочих», о «стальной воле», о невообразимой какой-то «свободе – гадам не под стать», взвалив по обычаю все грехи на царя, которого назвал оскорбительно «Наш маленький султан», что просто не имело под собой никакого смысла, кроме бездумного глумления в угоду определенным кругам, которые очень скоро станут кругами Ада. Что делать, он был всего лишь поэт, при этом поэт модный, и быть бы ему однодневкой, если б не талант. Но знать бы ему, воспевшему чуму и проказу, что грянет день, когда эти символы ужасного свершатся наяву и железом воцарятся на крови в родном доме! Бальмонт – глашатай красоты и меньше всего пророк. Между тем дар пророчества, свойственный поэтам с древности, а значит, в какой-то мере и ему, позволил Бальмонту нечаянно заглянуть в не столь уж отдаленное будущее. В «Литургии красоты», изданной в 1905 году, поэт, точно определив настоящего адресата, написал великое стихотворение «Бедлам наших дней». Вот оно.
Безумствуют, кричат, смеются,
Хохочут, бешено рыдают,
Предлинным языком болтают,
Слов не жалеют, речи льются
Многоглагольно и нестройно,
Бесстыдно, пошло, непристойно.
Внимают тем, кто всех глупее,
Кто долгой в болтовне тягучей,
Кто, человеком быть не смея,
Но тварью быть с зверьми умея,
Раскрасит краскою линючей
Какой-нибудь узор дешевый,
Приткнет его на столб дубовый
И речью нудною, скрипучей
Под этот стяг сбирает стадо,
Где каждый с каждым может спорить,
Кто всех животней мутью взгляда,
Кто лучше сможет свет позорить.
О сердце, есть костры и светы,
Есть в блеск одетые планеты,
Но есть и угли, мраки, дымы
На фоне вечного горенья.
Поняв, щади свои мгновенья,
Ты видишь: эти – одержимы,
Беги от них, им нет спасенья,
Им радостно, что бес к ним жмется,
Который глупостью зовется.
Он вечно ищет продолженья, –
Чтоб корм найти, в хлевах он бродит, –
И безошибочно находит
Умалишенные виденья.
О сердце, глупый бес – как Лама,
Что правит душами в Тибете:
Один умрет – другой для срама,
Всегда в запасе есть на свете.
Беги из душного Бедлама
И знай, что, если есть спасенье
Для прокаженных, – есть прозренье, –
И что слепцы судьбой хранимы, –
Глупцы навек неизлечимы.
Не случайно, что это стихотворение не вошло в том Библиотеки поэта (1969). Слишком откровенно поэт нарисовал картину ораторствующего под стягом, разрисованным линючей краской. Эта картинка увидена на тогдашних улицах, когда с любого столба кричали новоявленные благодетели рода человеческого, и черты одного из таких «передовых борцов» неожиданно узнаются, – его «животная муть взгляда», узнается нудная, скрипучая речь, обращенная к самым низменным инстинктам толпы, узнается готовность растоптать все родное, отеческое. На многие годы вперед образ агитатора заполнит жизнь России, застынет в монументальных позах на ее площадях. И это увидел и нарисовал Бальмонт, артистично воспевавший дикарские инстинкты, но интуитивно не приемлющий никакого хаоса. Он назвал этого беса – Глупость. Глупость, может, и была бесом, но за ней стояло нечто пострашнее. Вовлеченный в круговорот событий, Бальмонт, как и все, конечно, не мог взвешенно постичь их действительную сущность. В его представлении царило еще байроновс-кое возмущение всяким угнетением и в противовес – восславление всяческой свободы. Ничего реального у него под этим не было, но пример Толстого увлекал многих: с Толстым мы правы! Но тогда еще никто не мог знать, что и Толстой, в своих отрицаниях дошедший до Буддизма, в конце концов не нашел ни одного ответа. Насильствие же революций безоговорочно отвергал. И этого-то как раз не услышали. 1910 год положил конец его метаниям и развязал руки всем. Вот бальмонтовская инвектива против Романовых: «Ждите же царствия страха!» Бальмонт никак не ожидал в увлечении слегка кабацким по русскому обычаю негодованием, что царствие страха уже не за горами и на плахе окажется не только русский царь с семьей, но вся Россия и он сам. И не на плахе даже, как воображал поэт, а в подвале обыкновенного дома, в расстрельном подвале ЧК.
Бальмонт – романтик и поступал как романтик. Он весь еще был во власти грез свободомыслия Байрона и Шелли, во власти трагических видений любимого им Эдгара По, которые часто, между прочим, оказывались черным розыгрышем, фарсом. И в том и в другом случае жизнь – катастрофа. В личном плане – всегда. Катастрофа нашего поэта двойная. Бальмонт был гражданин мира, каким он себя считал, но при этом, несомненно, был европейцем, а еще более – русским. Его судьба – зеркало влияний Европы на русского интеллигента. Версилов из «Подростка» Достоевского с жаром говорил о камнях Европы как о святыне всякого русского. Он же говорил о различиях. Вот и Бальмонт, 1867 года рождения, дитя достоевской поры, – именно о таких, вот об этих детях и писал Достоевский, – также и Бальмонт стремился идти по стопам пророков Европы. Он не замечал и не мог заметить, что эти пророки несли разрушение своему дому, а значит, и его дому тоже. И дело делалось, почти уже само собой. Сколько писали о закате Европы, о загнивании Запада. Но все ценности брали в основном оттуда. Близкое время не позволяло видеть правду, а она состояла в том, что дело не в материальных благах, но в устоях Европы, которым Европа изменила. А то говорят: «Где же этот пресловутый закат Европы? Вон как процветает!» Кажется, лишь теперь уясняется, что был поколеблен дух Европы, а не что-нибудь иное. И вся судьба Бальмонта, как наиболее яркого символиста русской литературы, есть наглядное тому свидетельство. Он сам стал символом и не упадка даже, а настоящего крушения европейской культуры и своей страны. И в этом смысле он декадент.