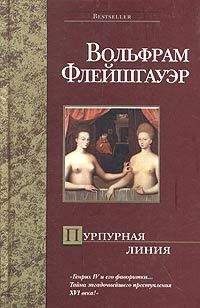Джон Донн - Стихотворения и поэмы
САТИРА II
Сэр, этот город весь мне ненавистен!
Но если есть главнейшая из истин,
То есть и зло, какое я бы счел
Главнейшим, превосходнейшим из зол.
Не стихоплетство, – хоть сия досада
Страшней испанских шпаг, чумы и глада,
Внезапней, чем зараза и любовь,
И не отвяжется, пока всю кровь
Не высосет, – но жертвы сей напасти
Бессильны, безоружны и отчасти
Достойны сожаленья, а никак
Не ненависти, аки лютый враг.
Один (как вор за миг до приговора
Спасает от петли соседа-вора
Подсказкой «виселичного псалма»)
Актеров кормит крохами ума,
Сам издыхая с голоду, – так дышит
Органчик дряхлый с куклами на крыше.
Другой на штурм сердец стихи ведет,
Не ведая, что век давно не тот,
Пращи и стрелы не пригодны боле,
Точнее попадают в цель пистоли!
Иной подачки ради в рифму льстит:
Он попрошайка жалкий, не пиит.
Иной кропает оттого, что модно;
Не хуже прочих? – значит, превосходно!
А тот, кто разума чужого плод
Переварив прескверно, выдает
Извергнутый им опус тошнотворный
За собственный товар? – он прав, бесспорно!
Пусть вор украл из блюда моего,
Но испражненья – целиком его.
Он мной прощен; как, впрочем, и другие,
Что превзошли божбою литургию,
Обжорством – немцев, ленью – обезьян,
Распутством – шлюх и пьянством – океан.
И те, для чьих пороков небывалых
В аду не хватит особливых залов,
Столь во грехах они изощрены, —
Пусть! в них самих есть кара их вины.
Но Коский – вот кто гнев мой возмущает!
Власть времени, что агнца превращает
В барана, а невинный прыщик – в знак
Той хвори, о которой знает всяк,
Студента превратила в адвоката;
И тот, кто рифмоплетом был когда-то,
Став крючкотвором, возгордился так,
Что даже волочиться стал, чудак,
По-адвокатски: «Я вношу прошенье,
Сударыня». – «Да, Коский». – «В продолженье
Трех лет я был влюблен; потерян счет
Моим ходатайствам; но каждый год
Переносилось дело…» – «Ну, так что же?» —
«Пора де факто и де юре тоже
Законно подтвердить мои права
И возместить ущерб…» – Слова, слова,
Поток судейской тарабарской дичи,
Терзающие нежный слух девичий,
Как варварская брань иль ветра вой
Над монастырской сломленной стеной!
Я бы простил глупца и пустозвона,
Но тот, кто выбрал поприще закона,
Преследуя стяжательскую цель,
Тот храм Фемиды превратил в бордель.
Шурша бумагами, как юбкой шлюха,
Он зубы заговаривает глухо,
Темнит, – как вор, в темницу сев, темнит,
Что, мол, за поручительство сидит;
Просителя, что о своем хлопочет,
Как королевский фаворит, морочит
(Иль сам король); к барьеру напролом,
Как бык, он лезет – лгать перед судом.
Нет столько в королевской родословной
Ублюдков, ни в истории церковной —
Содомских пятен, сколько в нем живет
Лжи и пронырства; в них его доход.
Он оттягать себе намерен вскоре
Весь этот край от моря и до моря;
Наследников беспечных мотовство —
Источник адской радости его.
Как смотрит бережливая кухарка,
Чтоб не пропало даром и огарка,
Мечтая лет за тридцать, может быть,
На платье подвенечное скопить, —
По крохам собирает он именье,
Блюдя азарт картежный – и терпенье.
На свитках, что свободно обовьют
Полграфства (в наши дни за меньший труд
Отцами Церкви славятся иные),
Он лихо сочиняет закладные,
Бумаги не жалея; так сперва
Желал бы Лютер сократить слова
Святых молитв, когда, послушный инок,
По четкам он читал их без запинок,
Но отменив монашескую блажь,
Добавил Славу с Силой в Отче наш.
Когда же он продажу совершает,
То как бы по оплошке пропускает
Наследников, – так спорщик-богослов
В упор не замечает в тексте слов,
Чья суть, коль толковать ее неложно,
Его резонам противоположна.
Где рощи, одевавшие удел
Наследственный? – Мошенник их надел.
Где хлебосольство предков? Не годится
Усадьбам ни по-нищенски поститься,
Ни вакханальствовать: в большом дому
Большие гекатомбы – ни к чему;
Всё – в меру. Но (увы!) мы ценим вроде
Дела благие, но они не в моде,
Как бабушкин комод. Таков мой сказ:
Его не подвести вам под Указ.
САТИРА III
Печаль и жалость мне мешают злиться,
Слезам презренье не дает излиться;
Равно бессильны тут и плач, и смех;
Ужели так укоренился грех?
Ужели не достойней и не краше
Религия, возлюбленная наша,
Чем добродетель, коей человек
Был предан в тот, непросвещенный, век?
Ужель награда райская слабее
Велений древней чести? И вернее
Придут к блаженству те, что шли впотьмах?
И твой отец, найдя на небесах
Философов незрячих, но спасенных,
Как будто верой, чистой жизнью оных,
Узрит тебя, пред кем был ясный путь,
Среди погибших душ? – О, не забудь
Опасности подобного исхода:
Тот мужествен, в ком страх такого рода.
А ты, скажи, рискнешь ли новобранцем
Отправиться к бунтующим голландцам?
Иль в деревянных склепах кораблей
Отдаться в руки тысячи смертей?
Нырять в пучины, в пропасти земные?
Иль пылом сердца – огненной стихии —
Полярные пространства растопить?
И сможешь ли ты саламандрой быть,
Чтоб не бояться ни костров испанских,
Ни жара побережий африканских,
Где солнце – словно перегонный куб?
И на слетевшее случайно с губ
Обидное словцо – блеснет ли шпага
В твоих руках? О, жалкая отвага!
Храбришься ты и лезешь на рога,
Не замечая главного врага;
Ты, ввязываясь в драку бестолково,
Забыл свою присягу часового;
А хитрый Дьявол, мерзкий супостат
(Которого ты ублажаешь) рад
Тебе подсунуть, как трофей богатый,
Свой дряхлый мир, клонящийся к закату;
И ты, глупец, клюя на эту ложь,
К сей обветшалой шлюхе нежно льнешь;
Ты любишь плоть (в которой смерть таится)
За наслаждений жалкие крупицы,
А сутью и отрад, и красоты —
Своей душой пренебрегаешь ты.
Найти старайся истинную веру.
Но где ее искать? Миррей, к примеру,
Стремится в Рим, где тыщу лет назад
Она жила, как люди говорят.
Он тряпки чтит ее, обивку кресла
Царицы, что давным-давно исчезла.
Кранц – этот мишурою не прельщен,
Он у себя в Женеве увлечен
Другой религией, тупой и мрачной,
Весьма заносчивой – хоть и невзрачной:
Так средь распутников иной (точь-в-точь)
До грубых деревенских баб охоч.
Грей – домосед; ему твердили с детства,
Что лучше нет готового наследства;
Внушали сводни наглые: она,
Что от рожденья с ним обручена,
Прекрасней всех. И нет пути иного,
Не женишься – заплатишь отступного,
Как новомодный их закон гласит.
Беспутный Фригий всем по горло сыт,
Не верит ничему: как тот гуляка,
Что много шлюх познав, страшится брака.
Любвеобильный Гракх – наоборот,
Он мыслит: сколь ни много женских мод,
Под платьями у них различий нету;
Так и религии. Избытком света
Бедняга ослеплен. Но ты, учти,
Одну обязан истину найти.
Да где и как? не сбиться бы со следа!
Сын у отца спроси, отец – у деда;
Почти близняшки – истина и ложь,
Но истина постарше будет все ж.
Не уставай искать и сомневаться:
Отвергнуть идолов иль поклоняться?
На перекрестке верный путь пытать —
Не значит в неизвестности блуждать,
Брести стезею ложной – вот что скверно.
Пик Истины высок неимоверно;
Придется покружить по склону, чтоб
Достичь вершины, – нет дороги в лоб!
Спеши, доколе день, а тьма сгустится —
Тогда уж будет поздно торопиться.
Хотенья мало, надобен и труд:
Ведь знания на ветках не растут.
Слепит глаза загадок средоточье,
Хоть каждый их, как солнце, зрит воочью.
Коль истину обрел, на этом стой!
Бог не дал людям хартии такой,
Чтоб месть свою творили произвольно;
Быть палачами Рока – с них довольно.
О бедный дурень, этим ли земным
Законом будешь ты в конце судим?
Что ты изменишь в грозном приговоре,
Сказав: меня Филипп или Григорий,
Иль Мартин, или Гарри так учил? —
Ты участи себе не облегчил;
Так мог бы каждый грешник извиниться.
Нет, должно всякой власти знать границы,
Чтоб вместе с ней не перейти границ, —
Пред идолами простираясь ниц.
Власть – как река. Блаженны те растенья,
Что мирно прозябают близ теченья.
Но если, оторвавшись от корней,
Они дерзнут помчаться вместе с ней,
Погибнут в бурных волнах, в грязной тине
И канут, наконец, в морской пучине.
Так суждено в геенну душам пасть,
Что выше Бога чтят земную власть.
САТИРА IV
Отныне все мне нипочем; готов
Я к смерти; сколь ни страшен гнет грехов,
В таком чистилище я побывал сегодня —
В сравненьи с ним бледнеет Преисподня!
Не то чтобы меня туда повлек
Тщеславья зуд иль гордости порок,
Не то чтоб я хотел покрасоваться
Иль милостей монарших домогаться.
Но как шутник, по дурости попав
На мессу, заплатил в сто марок штраф,
Так я, судьбой застигнутый на месте
Столпотворенья зла, обмана, лести
И похоти, какими славен Двор,
Сочтен был (о, поспешный приговор!)
Одним из тех, кто в сем гнезде разврата
Живут, – и не замедлила расплата.
Мучитель, что вблизи меня возник,
Был чуден видом и повадкой дик;
В Ковчеге зверя не было страннее,
Не сыщешь ни в Гвиане, ни в Гвинее
Такого монстра; как его назвать,
Адам бы затруднился угадать.
Его бы истребили, как варяга,
В пылу резни норманской; он, бедняга,
Поплатится из первых головой,
Когда поднимется мастеровой
На чужаков. Он странен так, что страже
Не надобно и сомневаться даже,
Чтоб задержать его: «Эй, падре, стой!»
Его джеркин и черный, и простой,
Быв бархатным когда-то, так истерся,
Что лишь воспоминания о ворсе
Хранит – и скоро будет кружевным,
Пока совсем не истончится в дым.
Хозяин сей хламиды за границей
Бывал и знаньем языков гордится:
По сути, он наскреб из всех углов
Смесь дикую из самых пестрых слов,
Окрошину речей, застрявших в ухе,
Такую кашу, что и с голодухи
Не расхлебать: знахарки трескотня,
Схоласта заумь, стряпчего стряпня
И бестолочь бедлама – звук невинный
Пред этой беспардонной мешаниной.
Таким вот языком ему с руки
Развязывать чужие языки,
Льстить, вдовушек дурить, ловить на слове
И лгать наглей, чем Сурий или Джовий.
Меня заметил он. О грозный Рок!
Чем я твой бич карающий навлек?
«Сэр, – начал он, – по зрелому сужденью,
Кому б вы дали пальму предпочтенья
В лингвистике?» – Я сдуру говорю,
Мол, Калепайновскому словарю.
«Нет, сударь, – из людей?» В карман не лезу
Я за ответом; называю Безу
Да пару наших лучших знатоков
Хвалю… «Все это – пара пустяков! —
Вскричал чудак. – Апостолы, конечно,
Знавали толк в наречьях, и успешно
Панург болтал на разных языках;
Но, проведя в скитаньях и трудах
Всю жизнь, я сделался непревзойденней!»
«Как жаль, – заметил я, – что в Вавилоне
Такого не случилось толмача,
Не то (хватило б только кирпича)
Их Башня бы до облаков достала».
Он буркнул: «При дворе вас видно мало.
Уединение рождает сплин». —
«Но я не так уж одинок один.
К тому же времена, когда спартанец
От пьянства отвращался видом пьяниц,
Прошли; картинок Аретино ряд
Научит целомудрию навряд;
Дворцы владык – пороков ярких сцены —
Как школы добродетели, не ценны». —
«Сэр! – лопнувшей струною взвизгнул он. —
Беседовать о принцах – высший тон!»
Я отвечал: «Могильный есть смотритель
В Вестминстерском аббатстве; захотите ль —
Он вам расскажет все о королях,
Притом покажет, где хранится прах
Всех наших Эдвардов и наших Гарри;
Он бесподобно врет, когда в ударе». —
«Фу! сколь суров и груб английский вкус!
Возможно ли представить, чтоб француз
Такое слушал?» – «Вон он, в спину дышит:
Он служит у меня – так, значит, слышит». —
«Французы элегантней, наконец,
Они для нас в одежде образец». —
«И без одежды тоже!» – Он подвоха
Не различил; я понял: дело плохо;
С тупицами острить – мартышкин труд:
Чем больше чешешь, тем сильнее зуд.
Тут, к счастию, стряхнув с лица суровость,
Он подмигнул мне: «Вы слыхали новость?» —
И шепотом, слова роняя с губ
По капле, словно перегонный куб,
Отверз мне бездну пошлости, поведав
Такое, что десятку Холиншедов
Не снилось: в духе ли была с утра
Монархиня – и как она вчера
Взглянула на кого; кто с кем в амурах,
Кто о каких мечтает синекурах,
Кто отравил кого и кто, продав
Поместье, стал владельцем полных прав
На ввоз и вывоз всех еловых шишек
И битых плошек (скоро и мальчишек,
Играющих в битки и в расшиши,
Обложат пошлиной)… Так от души
Он потчует меня своей стряпнею —
Плююсь, кривлюсь и только что не вою.
Но нет пощады! Переходит он
К политике держав, к борьбе за трон
И все вываливает мне мгновенно —
От Гальских войн до взятия Амьена.
Ушам уже терпеть невмоготу,
Я чувствую отрыжку, тошноту,
Как женщина брюхатая, потею —
Вот-вот рожу! Тем часом прохиндею
Взбрело на ум (как хитрецу, чья ложь —
Приманка для крамолы) на вельмож
Обрушиться: чины, мол, продаются;
Кампании военные ведутся
Не так; важнейшие чины в стране
Даются только по родству, а не
Заслугам; офицеры в Хэмптон-Холле
С пиратами и дюнкерцами в доле.
Он знает все: кто мот, кто виносос,
Кто любит шлюх, кто отроков, кто коз…
Как пленники Цирцеи, превращеньем
Врасплох застигнутые, – с изумленьем
И ужасом себя я ощутил
Преступником! Уже меня когтил
Акт об измене!.. Как же это сразу?
Один другому передал заразу —
И вылечился? Вывернулся он —
А я виновен? Что за скверный сон!
Но делать нечего. Я должен пытки
Стерпеть; я должен безо всякой скидки
На месте оплатить, в конце концов,
Грехи свои и всех своих отцов;
Таков мой крест… Но пробил час желанный,
Вдруг заспешил мой собеседник странный:
«Простите, сэр…» – «Да, да, прощайте, сэр!» —
«Нет, сэр! Вы не могли бы, например,
Мне крону одолжить?» – Не то что крону,
Я отдал бы охотно и корону,
Чтоб отвязаться. Но как тот скрипач,
Что должен напоследок вам, хоть плачь,
Исполнить джигу, прежде чем убраться,
В любезностях он начал рассыпаться.
Едва я их дослушал – и стремглав
(Счастливо остановок избежав)
Пустился наутек – так из темницы
Спасенный узник на свободу мчится.
Лишь дома я с трудом пришел в себя;
О виденном и слышанном скорбя,
Душа томилась и негодовала.
Как тот, кто Ад узрел на дне провала,
Я был напуган. Впрочем, страх – черта
Холопская. Ужель мои уста,
Вспылав, удержатся от обличенья,
Из страха? Неужели из почтенья
К надутым и бесстыдным господам
Я Правду, госпожу свою, предам?
О ты, что столько по миру бродило,
Взглянув на жизнь Двора, скажи, светило,
Где во вселенной сыщешь таковой
Пузырь тщеславья? – Садик восковой,
Курьез, приплывший в Лондон этим летом, —
Насмешка над придворным нашим светом.
Мы – кучка безделушек дорогих,
Раскрашенных, но пресных и сухих:
Бездельников, гордящихся корнями, —
С ублюдочными, жалкими плодами.
Итак, одиннадцатый час; пора!
И вот уж все, кто занят был с утра
Конюшней, теннисом иль потаскушкой,
Примочками иль пивом – друг за дружкой
Спешат, переодевшись, во дворец,
И с ними я (прости меня, Творец!).
Поля их шляп оплачены полями
Их вотчин – и увиты похвалами:
«Ах, что за роскошь! королю под стать!»
Неважно, что назавтра их продать
Актерам отнесут; мир – это сцена,
А жизнь – комедия, и преотменно
Разыгранная… Новый эпизод:
В зал входят дамы. Как пиратский флот
На галион, груженный кошенилью,
Бросается, – так, расфуфыря крылья,
Мужчины дам берут на абордаж.
Сраженье! лесть на лесть и блажь на блажь.
Ум в пурпур не рядится, как ни странно;
Вот вам резон: вся краска на румяна
Красавицам идет; чужой же ум
Скупает за бесценок тугодум.
Кого не рассмешит, по крайней мере,
Вид обчищающегося у двери
Макрина? В зал приемный, как в Мечеть,
Вступает он и, чтобы разглядеть,
Не морщат ли чулки, так задирает
Камзол, что этим самым обнажает
Не только смертные грехи прорех
И жирных пятен, но и мелкий грех
Приставших перьев. Погружаясь в грезы
Величия, он выверяет позы
По Дюреру и, совершенства круг
Явив собой, счастливый, как индюк
Иль проповедник новоиспеченный,
Что в первый раз читает речь с амвона,
Вступает с дамой в страстный разговор
И, встретя у жеманницы отпор,
Так пылко протестует, что в Мадриде
Давно бы уличен был в этом виде
Как протестант, – и столько раз твердит:
«Клянусь Исусом!» – что, как иезуит,
Мог тотчас же быть выведен с конвоем!
Да пусть бранятся; поделом обоим.
Но Глорий – вот кто всех переплюет:
За высший шик считает сумасброд
Ворваться в зал, терзая острой шпорой
Полу плаща, как ловчий с целой сворой
Визгливых псов, сметая все подряд;
С ртом, перекошенным, как у солдат,
Бичующих Христа на гобеленах,
Что от его ругни дрожат на стенах;
Он, точно шут, паясничает всласть
И помыкает всеми, словно власть.
Устав, хочу я выбраться на волю, —
Не так оно легко; в соседнем холле
Семь смертных сторожат меня Грехов;
Миную сонмище здоровяков,
Чья гордость – звание «людей короны»,
Пуды бифштекса и вина галлоны, —
Им сдвинуть колокольню по плечу.
Меж этих Аскапаров трепещу,
Как тать крадущийся. Отцы святые!
Потопом слов обрушьтесь, о витии,
На сей рассадник зла! а я лишь мог
Подмыть его, как слабый ручеек.
Смиренью Маккавеев подражая,
Свой труд я, может быть, и принижаю;
И все ж надеюсь: буду я прочтен,
Как должно понят – и внесен в Канон.
САТИРА V