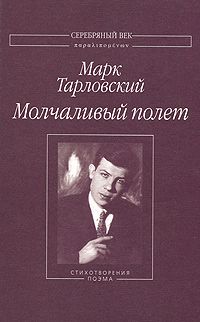Илья Эренбург - Избранное
1938 или 1939
141. У ЭБРО
На ночь глядя выслали дозоры.
Горя повидали понтонеры.
До утра стучали пулеметы,
Над рекой сновали самолеты,
С гор, раздроблены, сползали глыбы,
Засыпали, проплывая, рыбы,
Умирая, подымались люди,
Не оставили они орудий,
И зенитки, заливаясь лаем,
Били по тому, что было раем.
Другом никогда не станет недруг,
Будь ты, ненависть, густой и щедрой,
Чтоб не дать врагам ни сна, ни хлеба,
Чтобы не было над ними неба,
Чтоб не ластились к ним дома звери,
Чтоб не знать, не говорить, не верить,
Чтобы мудрость нас не обманула,
Чтобы дулу отвечало дуло,
Чтоб прорваться с боем через реку
К утреннему, розовому веку.
1938 или 1939
142. «Горят померанцы, и горы горят…»
Горят померанцы, и горы горят.
Под ярким закатом забытый солдат.
Раскрыты глаза, и глаза широки,
Садятся на эти глаза мотыльки.
Натертые ноги в горячей пыли,
Они еще помнят, куда они шли.
В кармане письмо — он его не послал.
Остались патроны, не все расстрелял.
Он в городе строил большие дома,
Один не достроил. Настала зима.
Кого он лелеял, кого он берег,
Когда петухи закричали не в срок,
Когда закричала ночная беда
И в темные горы ушли города?
Дымились оливы. Он шел под огонь.
Горела на солнце сухая ладонь.
На Сьерра-Морена горела гроза.
Победа ему застилала глаза.
Раскрыты глаза, и глаза широки,
Садятся на эти глаза мотыльки.
1938 или 1939
143. ГОНЧАР В ХАЭНЕ
Где люди ужинали — мусор, щебень,
Кастрюли, битое стекло, постель,
Горшок с сиренью, а высоко в небе
Качается пустая колыбель.
Железо, кирпичи, квадраты, диски,
Разрозненные, смутные куски.
Идешь — и под ногой кричат огрызки
Чужого счастья и чужой тоски.
Каким мы прежде обольщались вздором!
Что делала, что холила рука?
Так жизнь, ободранная живодером,
Вдвойне необычайна и дика.
Портрет семейный, — думали про сходство,
Загадывали, чем обить диван.
Всей оболочки грубое уродство
Навязчиво, как муха, как дурман.
А за углом уж суета дневная,
От мусора очищен тротуар.
И в глубине прохладного сарая
Над глиной трудится старик гончар.
Я много жил, я ничего не понял
И в изумлении гляжу один,
Как, повинуясь старческой ладони,
Из темноты рождается кувшин.
1938 или 1939
144. «В кастильском нищенском селенье…»
В кастильском нищенском селенье,
Где только камень и война,
Была та ночь до одуренья
Криклива и раскалена.
Артиллерийской подготовки
Гроза гремела вдалеке.
Глаза хватались за винтовки,
И пулемет стучал в виске.
А в церкви — экая морока! —
Показывали нам кино.
Среди святителей барокко
Дрожало яркое пятно.
Как камень, сумрачны и стойки,
Молчали смутные бойцы.
Вдруг я услышал: русской тройки
Звенели лихо бубенцы,
И, памятью меня измаяв,
Расталкивая всех святых,
На стенке бушевал Чапаев,
Сзывал живых и неживых.
Как много силы у потери!
Как в годы переходит день!
И мечется по рыжей сьерре
Чапаева большая тень.
Земля моя, земли ты шире,
Страна, ты вышла из страны,
Ты стала воздухом, и в мире
Им дышат мужества сыны.
Но для меня ты с колыбели —
Моя земля, родимый край,
И знаю я, как пахнут ели,
С которыми дружил Чапай.
1938 или 1939
145. «Додумать не дай, оборви, молю, этот голос…»
Додумать не дай, оборви, молю, этот голос,
Чтоб память распалась, чтоб та тоска раскололась,
Чтоб люди шутили, чтоб больше шуток и шума,
Чтоб вспомнив, вскочить, себя оборвать, не додумать,
Чтоб жить без просыпу, как пьяный, залпом и на пол,
Чтоб тикали ночью часы, чтоб кран этот капал,
Чтоб капля за каплей, чтоб цифры, рифмы, чтоб что-то,
Какая-то видимость точной, срочной работы,
Чтоб биться с врагом, чтоб штыком — под бомбы, под
пули,
Чтоб выстоять смерть, чтоб глаза в глаза заглянули.
Не дай доглядеть, окажи, молю, эту милость,
Не видеть, не вспомнить, что с нами в жизни случилось.
1938 или 1939
Барселона
146. «Молча — короткий привал…»
Молча — короткий привал —
Ночью ее целовал,
И не на ласку был скуп
Жар запечатанных губ.
Молча и до дурноты
Утром глядел на цветы,
Молча курил он табак,
Молча он гладил собак,
И суетился у ног
Теплый мохнатый щенок.
С ним говорила трава.
Где потерял он слова?
Вот истребитель идет,
Скажет свое пулемет,
Летчик глядит и молчит:
Нет языка у обид.
Громкая ночь жестока.
Нет у нее языка.
1938 или 1939
147. «Сочится зной сквозь крохотные ставни…»
Сочится зной сквозь крохотные ставни.
В беленой комнате темно и душно.
В ослушников кидали прежде камни,
Теперь и камни стали равнодушны.
Теперь и камни ничего не помнят,
Как их ломали, били и тесали,
Как на заброшенной каменоломне
Проклятый полдень жаден и печален.
Страшнее смерти это равнодушье.
Умрет один — идут, назад не взглянут.
Их одиночество глушит и душит,
И каждый той же суетой обманут.
Быть может, ты, ожесточась, отчаясь,
Вдруг остановишься, чтоб осмотреться,
И на минуту ягода лесная
Тебя обрадует. Так встанет детство:
Обломки мира, облаков обрывки,
Кукушка с глупыми ее годами,
И мокрый мох, и земляники привкус,
Знакомый, но нечаянный, как память.
1938 или 1939
148. «Как восковые, отекли камельи…»
Как восковые, отекли камельи.
Расина декламируют дрозды.
А ночью невеселое веселье
И ядовитый изумруд звезды.
В туманной суете угрюмых улиц
Еще у стоек поят голытьбу,
А мудрые старухи уж разулись,
Чтоб легче спать в игрушечном гробу.
Вот рыболов с улыбкою беззлобной
Подводит жизни прожитой итог,
И кажется мне лилией надгробной
В летейских водах праздный поплавок.
Домов не тронут поздние укоры,
Не дрогнут до рассвета фонари.
Смотри — Парижа путевые сборы.
Опереди его, уйди, умри!
1938 или 1939
149. МОНРУЖ
Был нищий пригород, и день был сер,
Весна нас выгнала в убогий сквер,
Где небо призрачно, а воздух густ,
Где чудом кажется сирени куст,
Где не расскажет про тупую боль,
Вся в саже, бредовая лакфиоль,
Где малышей сажают на песок
И где тоска вгрызается в висок.
Перекликались слава и беда,
Росли и рассыпались города,
И умирал обманутый солдат
Средь лихорадки пафоса и дат.
Я знаю, век, не изменить тебе,
Твоей суровой и большой судьбе,
Но на одну минуту мне позволь
Увидеть не тебя, а лакфиоль,
Увидеть не в бреду, а наяву
Больную, золотушную траву.
1938 или 1939
150. «Не торопясь, внимательный биолог…»
Не торопясь, внимательный биолог
Законы изучает естества.
То был снаряда крохотный осколок,
И кажется, не дрогнула листва.
Прочтут когда-нибудь, что век был грозен,
Страницу трудную перевернут
И не поймут, как умирала озимь,
Как больно было каждому зерну.
Забыть чужого века созерцанье,
Искусства равнодушную игру,
Но только чье-то слабое дыханье
Собой прикрыть, как спичку на ветру.
1938 или 1939
151. «На ладони — карта, с малолетства…»
На ладони — карта, с малолетства
Каждая проставлена река,
Сколько звезд ты получил в наследство,
Где ты пас ночные облака.
Был вначале ветер смертоносен,
Жизнь казалась горше и милей,
Принимал ты тишину за осень
И пугался тени тополей.
Отзвенели светлые притоки,
Стала глубже и темней вода.
Камень ты дробил на солнцепеке,
Завоевывал пустые города.
Заросли тропинки, где ты бегал,
Ночь сиреневая подошла.
Видишь — овцы, будто хлопья снега,
А доска сосновая тепла.
1938 или 1939