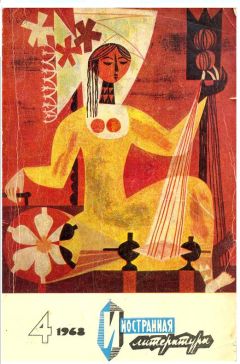Геннадий Алексеев - Стихотворения
В порыве отчаянья
В порыве невыносимого отчаянья
я схватил телевизионную башню
высотой в триста метров
и швырнул это сооружение
к ее ногам.
Но она и глазом не моргнула.
— Спасибо, — сказала она, —
пригодится в хозяйстве.
(Практична она
до ужаса.)
— А как же телевиденье? —
спросил я, слегка оробев.
— А как угодно, — сказала она
и улыбнулась невинно.
(Эгоистка она —
таких поискать!)
В порыве слепого отчаяния
я набросал к ее ногам
гору всяких предметов.
— Бросай, бросай! —
говорила она.
Я и бросал
Вспотел весь.
Озорство
Утром она исчезла.
Дома ее не было,
на работе ее не было,
в городе ее не было,
в стране ее не было,
за границей ее не было,
на Земле ее не было
и в Солнечной системе тоже.
Куда ее занесло? —
подумал я со страхом.
Вечером она появилась
как ни в чем ни бывало.
Где была? — спрашиваю.
Молчит.
Чего молчишь? — спрашиваю.
Не отвечает.
Что случилось? — спрашиваю.
Смеется.
Значит ничего не случилось.
Прости озорство.
Целый день
Я решил тебя разлюбить.
Зачем, думаю,
мне любить-то тебя,
далекую —
ты где-то там,
а я тут.
Зачем, думаю,
мне сохнуть по тебе —
ты там с кем-то,
а я тут без тебя.
К чему, думаю,
мне мучиться —
разлюблю-ка я тебя,
и дело с концом.
И я тебя разлюбил.
Целый день
я не любил тебя ни капельки.
Целый день
я ходил мрачный и свободный,
свободный и несчастный,
несчастный и опустошенный,
опустошенный и озлобленный,
на кого — неизвестно.
Целый день
я ходил страшно гордый
тем, что тебя разлюбил,
разлюбил так храбро,
так храбро и решительно,
так решительно и бесповоротно.
Целый день
я ходил и чуть не плакал —
все-таки жалко было,
что я тебя разлюбил,
что ни говори,
а жалко.
Но вечером
я снова влюбился в тебя,
влюбился до беспамятства.
И теперь я люблю тебя
свежей,
острой,
совершенно новой любовью.
Разлюбить тебя больше не пытаюсь —
бесполезно.
Хвастун
Стоит мне захотеть, —
говорю, —
и я увековечу ее красоту
в тысячах гранитных,
бронзовых
и мраморных статуй,
и навсегда останутся
во вселенной
ее тонкие ноздри
и узенькая ложбинка
снизу между ноздрей —
стоит мне только захотеть!
Экий бахвал! —
говорят. —
Противно слушать!
Стоит мне захотеть, —
говорю, —
и тысячелетия
будут каплями стекать
в ямки ее ключиц
и высыхать там,
не оставляя никакого следа, —
стоит мне лишь захотеть!
Ну и хвастун! —
говорят. —
Таких мало!
Тогда я подхожу к ней,
целую ее в висок,
и ее волосы
начинают светиться
мягким голубоватым светом.
Глядят
и глазам своим не верят.
Накатило
Накатило,
обдало,
ударило,
захлестнуло,
перевернуло вверх тормашками,
завертело,
швырнуло в сторону,
прокатилось над головой
и умчалось.
Стою,
отряхиваюсь.
Доволен — страшно.
Редко накатывает.
Возвышенная жизнь
Живу возвышенно.
Возвышенные мысли
ко мне приходят.
Я их не гоню,
и мне они смертельно благодарны.
Живу возвышенно.
Возвышенные чувства
за мною бегают,
как преданные псы.
И лестно мне
иметь такую свиту.
Живу возвышенно,
но этого мне мало —
все выше поднимаюсь постепенно.
А мне кричат:
— Куда вы?
Эй, куда вы?
Живите ниже —
ведь опасна для здоровья
неосмотрительно возвышенная жизнь!
Я соглашаюсь:
— Разумеется, опасна, —
и, чуть помедлив,
продолжаю подниматься.
Коктейль
Если взять
тень стрекозы,
скользящую по воде,
а потом
мраморную голову Персефоны
с белыми слепыми глазами,
а потом
спортивный автомобиль,
мчащийся по проспекту
с оглушительным воем,
а после
концерт для клавесина и флейты
сочиненный молодым композитором,
и, наконец,
стакан холодного томатного сока
и пару белых махровых гвоздик,
то получится довольно неплохой
и довольно крепкий коктейль.
Его можно сделать еще крепче,
если добавить
вечернюю прогулку по набережной,
когда на кораблях уже все спят
и только вахтенные,
зевая,
бродят по палубам.
Пожалуй,
его не испортил бы
и телефонный звонок среди ночи,
когда вы вскакиваете с постели,
хватаете трубку
и слышите только гудки.
Но это уже
на любителя.
Светлая поляна
Мой добрый август взял меня за локоть
и вывел из лесу на светлую поляну.
Там было утро,
там росла трава,
кузнечик стрекотал,
порхали бабочки,
синело небо
и белели облака.
И мальчик лет шести или семи
с сачком за бабочками бегал по поляне.
И я узнал себя,
узнал свои веснушки,
свои штанишки,
свой голубенький сачок.
Но мальчик, к счастью,
не узнал меня.
Он подошел ко мне
и вежливо спросил,
который час.
И я ему ответил.
А он спросил тогда,
который нынче год.
И я сказал ему,
что нынче год счастливый.
А он спросил еще,
какая нынче эра.
И я сказал ему,
что эра нынче новая.
— На редкость любознательный
ребенок! —
сказал мне август
и увел с поляны.
Там было сыро,
там цвели ромашки,
шмели гудели
и летала стрекоза.
Там было утро,
там остался мальчик
в коротеньких вельветовых штанишках.
Белая ночь на Карповке
На берегу
тишайшей речки Карповки
стою спокойно,
окруженный тишиной
заботливой и теплой белой ночи.
О воды Карповки,
мерцающие тускло!
О чайка,
полуночница, безумица,
заблудшая испуганная птица,
без передышки машущая крыльями
над водами мерцающими Карповки!
Гляжу спокойно
на мельканье птичьих крыльев,
гляжу спокойно
на негаснущий закат,
и сладко мне
в спокойствии полнейшем
стоять над узкой,
мутной,
сонной Карповкой,
а чайка беспокойная садится
неподалеку
на гранитный парапет.
Все успокоилось теперь
на берегах
медлительной донельзя
речки Карповки.
Без эпитетов
Стальной,
торжественный,
бессонный,
кудреватый…
Я не люблю эпитетов,
простите.
Прохладно-огненный,
монументально-хрупкий,
преступно-праведный,
коварно-простоватый…
Я не люблю эпитетов —
увольте.
Да славится святая нагота
стихов и женщин!
Вот она,
смотрите!
вот шея,
вот лопатки,
вот живот,
вот родинка на животе,
и только.
И перед этим
все эпитеты бессильны.
Ведь ясно же,
что шея
бесподобна,
лопатки
сказочны,
живот
неописуем,
а родинка
похожа на изюминку.
Снег