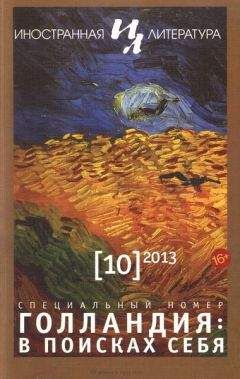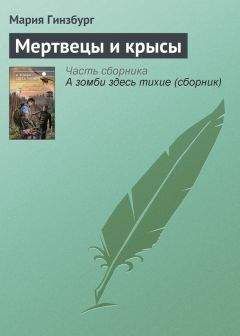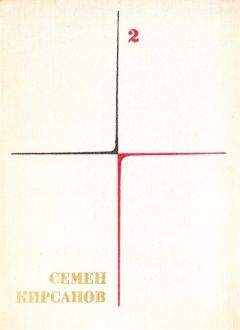Семён Кирсанов - Поэтические поиски и произведения последних лет
О, мое новое «нео»! Мое озаренье мгновенное — небо мира необыкновенное. Так у речи на дне мне, как капитану Немо, открылись подробности будущих слов и их необъятнейшие неовозможности.
Почему же опять упрекают меня в необдуманной неосторожности?
Райский стихОбидное слово «раёшник». Вроде как «трешница» или «старьевщик». Термин — гармошечный, тальянистый. «Сонет» — благороднее, итальянистей. Стансы — это придворные танцы. А раёк — это пляшет простой паренек. Но мне в райке — как попугаю у шарманщика в вещей руке. Я так полагаю. Мне — в райке — как в старинке зазывале в зверинец на рынке. Мне в райке запестрели колпаки скоморохов и менестрелей.
Раёк — это райский стих разных птиц и цветных шутих. Ничего, что он шире и тише, что нету в нем слоговых часовых, дисциплинированных четверостиший.
Стих райка — как в праздник река с фонариками и флажками, как в кольцах старинных рука, как топоток казачка сафьяновыми сапожками.
Пойдем с тобой по райку на прогулку, как по московскому старому переулку. Хорошо? Так давай посошок!
Потолочная шуткаПаучок — ног пучок — выткал и поволок нитку под потолок. И там прилег. У лепного витка его высотка — там северный полюс старательно соткан. Но к потолку, к лепному витку тянется потолочная щетка — беда пауку. Пока паук набирался скульптурных паук, пауку и каюк! И конец паутине в щеточной жесткой щетине. Мысль паука: «Боже! Как я одинок! До чего же щетка меня многоножей! До чего относительно количество ног!»
БолезньВот я и болен! Я простыней заневолен, обязан не двигать рукою, не смеяться, не плакать! Вложен в кроватную мякоть. Врачами прописан покой. Белизна занавешенных окон… Человек в починке — набинтованный кокон, — я пришел к состоянью личинки! А на улице строят дома, от весны все растения сходят с ума, даже птицы уже прилетели. Вы продумайте только глагол «бюллетенить»! Люблю ли я тень? Температурной кривой канитель? О, когда же я вылечусь, о, когда же я вылечу жужжать по весенней Москве, в ботанической пышной листве? Там у меня все знакомые — и соцветья, и листья, и насекомые!
НесовершенствоНа крылышках бабочки — сепия, охра и сажа. Ее окрасили без фиксажа. Остается на пальцах пыльца с ее пыльноцветного тела. Ах, какой неустойчивый цвет лица! Как природа недоглядела, почему не одела бабочку в игольчатый, панцирь, не предусмотрела, что бабочку будут ловить такие жесткие, твердые пальцы?
СловаСлова — торжественные, слова, как пироги рождественские, слова как медленные шаги, как лакированные сапоги, — с царственными жестами, протягиваемые, жезлами. Слова уважения, почитания, умиления: жертвоприношение, бракосочетание, благословение, — соединившие руки, как августейшие царствующие супруги.
Слова простейшие: есть, пить, небо, хлеб, день, ночь, сын, дочь, нет, да, свет, стон, сон, я, он, ты, быть, жить. Это слова-однолетки ядрышки, клетки. Вполне годится обходиться ими одними.
Слова — служащие, услужливо слушающие: что? как? так? так! — они подаются к другим, как пальто и шинели, незаметны на слух. Они вроде слуг стоят у фраз за плечами, придаются словам, как ложки и вилки, затыкают слова, как пробки бутылки.
А есть слова деловые, мастеровые, как наждак, верстак, паковать, шпаклевать, поковка, ножовка, — обстоятельные, самостоятельные.
Есть слова, разящие и грозящие, обрывающие и убивающие, ждущие и жгущие, пирующие и целующие, губящие и любящие, злобные и добрые; слова как лекарственная трава, слова как еще не открытые острова, как в пустыне приснившаяся листва…
О, слова!
ПеременыВ детстве я обожал калейдоскоп: скоп колотых стеклышек. Нравилось встряхивать и смотреть — особенно в скуку кори и коклюша. Калейдоскоп — колодца глубокое дно, конец удивительного коридора, цветное окно готического собора… Встряхивал, прикладывал к глазу, и было только обидно одно — что не удалось ни разу снова увидеть такое ж окно…
Как-то вытряхнул рыцарский орден. Очень был горд им. Но недолго смотрел на орден в глазок. На один волосок переменил позу, стеклышко синее скок — и орден превратился в разноцветную розу ветров.
С тех пор я очень люблю всяческую метаморфозу.
И поэзией ставшую прозу.
НадеждаУгадай: как он выглядит — коммунизм? Как он выгладит наши морщины? Говорят, что на вершины гор подымутся грани радужных призм… Говорят, что машины будут нам чистить платья… Говорят, что исчезнет понятье «в поте лица своего»… Люди забудут о плате… Нет! Больше того!.. Это будет знакомство людей на весь мир! Дружба с каждым и всяким, далеким и близким. Нет! Не стрижка под общий ранжир! Миллиардноразличные спектры и искры душ и лиц. Превращенье провинций и деревень в сотни тысяч столиц! И глаза людей — микроскопами в каждую встречную мысль. А мысли — телескопами ввысь. Понимание с полувзгляда шевеленья ресниц. Превращение слова «работать» в слово «дышать». Исчезновение слов, как «ложь» или «грязь», или «дрожь» или «мразь». Появление слов, а каких, я еще не могу угадать. Люди будут больше любить выражение «дать», чем «забрать». И обращение к людям на «я». И возможность сказать о планете — «моя». Никому не дадут заблудиться или пропасть. И воздух сквозной новизною пронизан. Да, я бесконечно люблю коммунизм! И имею надежду попасть. Стоит жить — с надеждой попасть в коммунизм.
ВЕРШИНА
Поэма (1952–1954)
Вам,
что решили
сквозь лед и камень
пройти
к вершине своих исканий;
вам,
смывшим с мыслей
грязь себялюбья;
вам,
не забывшим
крюки и зубья
с веревкой прочной
подвесить к вьюкам;
вам,
знавшим точно
вес жизни друга,
когда слабел он
на гребне белом;
вам,
различавшим
со взгляда, сразу,
где час,
где вечность,
где только фраза,
где настоящая
человечность;
вам,
кто с ладони
пьет,
точно с блюдца,
нарзан студеный
под горной складкой;
кому так сладко
переобуться
в тиши привала
у перевала;
вам,
кому спится легко и ровно
под звездным кровом;
вам,
потесниться
и поделиться
всегда готовым;
вам,
в мире снежном —
душой богатым,
простым, и нежным, и грубоватым, —
друзьям случайным
в пути по свету
я поручаю
поэму эту.
Ей
в буре бедствий,
в пурге событий
пропасть
без ве́сти
вы не дадите.
На Крыше Мира
с Тянь-Шанем рядом
вершин
Памира
белеют гряды.
Памир
вы видели?
Он удивителен.
Над зноем Индии
он
весь заиндевел,
и Гиндукушу
он смотрит в душу.
В час
самый ранний,
когда светает,
привет
багряный
он шлет Китаю,
как друг навеки.
И неустанно
творит все реки
Таджикистана.
Спят перевалы,
через которые
шли караваны
во мгле истории.
Все трудно,
честно,
сурово,
строго.
Скалой отвесной
скользит дорога.
Сорвешься —
кончено!
Лишь пыль всклокочена…
Путь
Марко Поло —
мир словно умер,
безлюдно,
голо.
А горы
в думе
о гуле странном
за океаном:
какая тень там,
над континентом?
Кто не взволнован,
не поколеблен
их вечно новым
великолепьем!
Здесь
нет двуличия —
одно величие!
Но не презрителен,
он
только старше,
седой президиум
планеты нашей.
Арены,
бездны,
ручьев рождение,
морены тесные нагромождения,
размывы,
срывы,
где ждет разведчиков
внезапность бедствия,
где глетчер Федченко
ползет,
как шествие
горбатых статуй
в сосульках спутанных,
покрытых прахом
и в лед закутанных
гигантских женщин,
объятых страхом
у скользких трещин…
Лавин
падение
с грохотом бешеным,
оскалы хаоса
тысячеликого,
и где смыкается
Цепь Академии
с хребтом заснеженным
Петра Великого,
где льдины плотные
и фирн
спресованный
все склоны заняли, —
там,
как высотные
Природы здания,
закрыв снегами
свои морщины,
недосягаемые
стоят вершины.
Уже окончились
сады миндальные
Сталинабада,
уже видали мы
алмазно-солнечный
блеск ледопада,
и смерч,
крутящийся
багровой массой,
и дико мчащийся
брод Танымаса.
Уже поблизости
в камнях
под скалами
обросший известью
ключ
отыскали мы…
Витыми тропами
мы шли
внимательно,
я и три опытных
рудоискателя.
Все кряжи Азии
они облазили
и молотками
гранили камни,
с утесов сколотые.
Что кружит
голову
в горах геологу?
Свинец
и олово,
вольфрам
и золото —
вот что геологу
здесь кружит
голову.
В пластах
остаточных,
где блещет жи́льца,
причин
достаточно,
чтоб ей кружиться…
Передо мною
главарь веселый
нес
за спиною
рюкзак тяжелый.
Следы
металлов
ища, как счастье,
всегда
питал он
к камням пристрастье.
Он
не покинет
находку в яме —
буханку
вынет,
заменит камнем!
С ним шел южанин
с лицом вечерним,
глаза —
кинжалы
чеканной черни.
И пел он
часто.
Что? Было тайной.
Звучал
неясно
напев гортанный.
Был третий
ровным
и молчаливым,
спокойным,
словно
вода залива.
Что б ни случилось —
в пурге,
в тумане, —
всегда светилось
в нем
пониманье
моей дороги,
моей тревоги,
моих желаний и ожиданий…
А я,
я с ними
пошел к вершинам —
к стоящим
в синем
земным старши́нам.
Но не за рудным
месторожденьем
я шел по трудным
нагроможденьям
к снегам
и гребням
по узкой бровке.
Не по служебной
командировке —
по просьбе сердца:
лишь
насмотреться.
Увидеть мне бы
мир высочайший,
накрытый чашей
чистого неба!
Лишь встать
над мощным
седым потоком,
и все,
что в прошлом,
подбить итогом,
и жизнь задумать
верней,
чем прежде, —
над мглой угрюмых
щелей и трещин.
Так шли мы,
четверо,
к цепям высоким.
Уже
обветрило
в пути нам щеки,
уже
доро́гою
витой,
по кругу,
успели
многое
сказать друг другу.
И край суровейший,
что, словно скряга,
держал
сокровища
в бездонных складах,
где тьма нависла
над низом дымным,
вдруг становился гостеприимным
и, как поместий
хозяин щедрый,
шел с нами вместе,
раскрыв все недра
гостям желанным
для обозренья,
сняв
все туманы
без подозренья,
стлал путь нам
мохом,
как редким мехом,
и провожал нас
далеким эхом,
звучавшим, будто
поверка стражей,
глядящих люто
с зубчатых кряжей,
прищуря веки
коварной тайной
закрыть навеки
нас
в башне крайней!
В поэме этой
вы не ищите
эффектно
вдетой
сюжетной нити.
Она
не прочит
себя в романы,
она
не очерк
о далях странных, —
в туманах
роясь,
в дождях и в глине,
она
лишь поиск
тропы к вершине.
Не все так ясно,
не все так гладко
шло,
как по маслу,
своим порядком.
И быт
был выбран
не то чтоб низменный,
и стол мой
письменный
был чист и прибран.
В тетради — почерк,
как ключ,
извилист,
и струйки строчек
в блокнотах
вились.
Но было это
не на вершине
и не в низине,
а между где-то,
посередине.
Так было дома,
а в мире,
тут же,
шел век подъемов
по льду
крутому,
в огне
и в стуже,
век Сталинграда
и век Вьетнама —
век
восхождений
сердец упрямых
к высоким грядам.
И век падений,
глубоких самых,
век эпидемий
и нападений,
фонтанов дыма,
смерчей,
обвалов…
Век Хиросимы
и Гватемалы…
Я так старался
быть рядом
с высью,
я к ней взбирался
проворной мыслью.
Мне открывались
дела-высо́ты,
где прикрывались
сердцами
доты,
где через трупы
с обрывком флага
шли вверх, на купол,
на штурм
рейхстага,
на рельсы
прямо —
ложились грудью,
чтоб в грудь Вьетнама
не бить орудью,
где узнавались
глубины долга,
где целовались
у Дона с Волгой,
в отряде горном
крутизны брали…
Не на страницах,
не позы ради,
а в ходе жизни.
Но в ходе жизни
мне стало мниться,
что, отдавая
ежеминутно свет отражения,
жизнь шла,
как будто шла видовая.
Я с ней — не вместе.
Она
в движении,
а я
на месте.
Что рядом с вымыслом
стиха
и прозы
жизнь страшно выросла!
Все громче грозы.
Мощней и шире
зеленоватые
валы девятые
событий в мире.
Вот
на экране
напалм и пламя…
Товарищ
ранен!
Но разве там я?
Вот,
может, в Чили
в порту,
средь бочек,
пикет рабочих
в слезоточивом
проходит газе…
Но там я разве?
Не там,
где к полюсу
подходит льдина,
где холод
полностью
жизнь победила
и люди взялись
за ось планеты…
Я только в зале,
с входным билетом.
Фильм
ослепителен
с сюжетом жизненным,
монтаж
чудесен.
Но быть лишь зрителем
удел
мне тесен,
при общепризнанном
удобстве кресел,
в тепле,
в квартире.
Где взять,
как выпросить
свою часть чувства
участья в мире?
А так жить — грустно.
И стал менять свой
реальный день я
на мир неясный,
на сновиденья.
Во сне я крался
кустами хлесткими
и натыкался на камни
с блестками
в прозрачных жилах.
Они звучали:
«Мы очень ценные,
в нас скрыта сила».
И облучали
сияньем стены мне.
А то я химик
и в пальцах
синих
держу открытие:
белка рождение!
То вдруг отплытие,
то восхождение
почти что по́ небу
к парящим стаям…
Вот так я бредил,
большое что-нибудь
свершить мечтая.
Но в смутном будущем
терял я
чаще
работы будничной
простое
счастье, —
план не заверстан,
день не построен…
Так
недовольство собой святое
вдруг стало болью
и раной
рваной,
натертой солью.
И с ней
я сжился,
с разъевшей грудь,
и так сложился
сюда
мой путь.
Как будто встретит
седая высь
и мне ответит:
«Остановись!
Смотри не под ноги,
а вверх,
где круть,
в волшебном подвиге
ищи
свой путь!»
И речью кряжей
лед и гранит
мне все расскажет,
все разъяснит.
И все, что трудно найти, —
найду!
И долго буду
стоять на льду,
на мир,
зарытый
в туман по треть,
зарей залитый, —
смотреть, смотреть…
Все круче,
круче
мы шли вдоль края
гряды сыпучей,
в грунт
упирая
ботинки кованые.
Все выше,
выше.
И вот мы вышли
на ледниковое
средь гор
течение.
В ожесточении
ледник
низвергся.
Природа вздыбила
и рассердила
богов и идолов.
И рассадила
в гранитных креслах
Рамсесов,
Ксерксов.
А льду повелено
вести
в затишье
поход замедленный
орды
застывшей.
И в этой гибели
ветрам открытый
мы ригель выбрали,
покрытый
рытым
полярным бархатом —
зелено-яхонтовым
лишайником.
Разбили низкую
альпинистскую
палатку нашу.
И рады-веселы!
Звякнули чайником,
цибарку с кашей
на спирт
подвесили
на тонкой дужке.
Достали кружки
и концентраты.
Мурлычем песни.
И так чудесно
нам разговаривается.
И сыр мы режем,
вкушая роздых
в тиши.
Но воздух
здесь так разрежен,
что долго варится
каша наша,
земная,
гречневая.
…Льды плыли,
пряча
в тумане трещины.
Вожак наш начал
рассказ
обещанный.
Он был в походах,
в делах
немалых,
и мы с охотой
ему внимали:
«Вот тут
стояли мы
тому лет двадцать,
вот тут
мечтали мы
на Пик подняться.
Вот так же
вечером
здесь, на привале,
мы
перед глетчером чай допивали.
Остался лагерь
лишь промежуточный.
Глоток
из фляги —
и
в путь нешуточный!..
И вот мы в Области
Оледенения:
вершин и пропастей
уединение.
Нет человечества!
Лавины белые.
Скал оконечности
окоченелые.
Все льдом оплавлено —
навалом,
грудой…
Но нет!
Неправильно.
Здесь не безлюдно.
Пусть мрак
в расселинах,
пусть всюду трещины,
пусть цепи встречные,
и параллельные,
и поперечные,
пусть в цирках пусто
и гриф
не кружится
над мертвой местностью —
тут живы будто
вершины мужества,
вершины честности.
Под ними
гряды,
ущелья нижние
и неподвижные ледопады.
Тут,
встав из мрака,
опять на свете
глядит
Пик Сакко
на Пик Ванцетти.
Стул электрический
не смог убить их.
Вокруг них —
тысячи
борцов забытых.
Тут,
недоверчиво
к словам неискренним,
врага зловещего
в горах разыскивая,
встал
Пик Дзержинского
утесом острым.
Все строго.
Просто.
Весь мир окинут
с поста испытанного.
И снег откинут
со лба
Димитрова.
Он снова судит.
И всюду —
люди из лучших лучшие.
Как две трибуны,
Пик Революции
и Пик Коммуны.
Хребет кренится,
ущелья вырыв.
Вот
у границы
Пик Командиров.
Теперь
нет края
часам их службы.
И в глубь Китая
глядит Пик Дружбы,
звездой поблескивая.
И, рифмой вторя ей,
Пик
Маяковского
тут славит будущее,
стихи
читая
перед бушующей
аудиторией
бурь и обвалов
в двенадцать баллов.
А вот
у пропасти
площадку выхватил
и вертит
лопасти
ветродвигатель…
Туда
по гребню
отрядик тянется,
там —
ближе к небу —
метеостанция,
где в ульях
трудятся
все пчелы ветра.
Начало старта —
пять тысяч двести
шестнадцать
метров…
И вновь нам чудится,
что вот
нагнулась
фигура Фрунзе
как бы над картой
военных действий,
горою высясь.
И взмахи гула
в гигантской кузне,
где сотни тысяч
гор
неизвестных,
но чистых, честных…
И рядом,
тут же,
светясь лучами,
прошел
сквозь тучи
Пик величавый.
И из-за облака алмазной пыли
вдруг проступили
черты знакомые
Предсовнаркома
над снежной „Правдой“.
Вершина Ленина,
всем близкий
облик,
простой и вечный.
Лоб человечный.
Взгляд кинут
искоса
давно, тогда еще,
в тайге ненастной,
все понимающий,
что нам неясно.
Точка за точкою
по крыльям сбросов
вдоль ледопада
к нему — цепочкою —
идут студенты
из абрикосового
Ленинабада.
Он солнцем залит
весь и мыслью
светится.
Нет!
Не безлюдно здесь —
здесь человечество.
Здесь
восходители,
маршрутом следуя,
нередко видели
пик
неразведанный,
пик
неоткрытый,
по грудь зарытый
в снега,
в туманы, —
пик безымянный.
Он,
дымно-перистый,
не знавший таянья,
имел
трапеции очертания.
В величье мощном,
с окраской нежною,
он был похож на
палатку снежную,
где греться можно…»
И было слышно,
как плещут складки
в тепле надышанном
у нас
в палатке.
Не прерывавшийся
и вздохом даже,
рассказ товарища
нас вел по кряжу:
«Снега твердели,
кололись иглами,
к концу недели
уже достигли мы
исходной точки
для штурма Пика.
Вокруг так дико!
Лед там не тает
зелено-серый,
цифр не хватает
высотомеру.
Прибором зрительным
мы
приблизительно определили:
семь с половиною
тысяч метров.
Конец идиллии.
Свирепость ветра
с рычаньем львиным,
— Не дать дорогу! —
И ставишь ногу
лишь вполовину:
спугнешь лавину…
Цвет неба
синий
все интенсивней.
Все строже
стражи
седой природы.
Отвесней
скалы.
Идешь усталый,
нет кислорода.
И горло настежь,
и гнутся спины.
И все же
жаждешь
достичь вершины.
Был Акбулаков
душой
отряда,
его отрада —
чтоб злей преграда,
чтоб неприступней,
отвесней,
круче!
Лезть в высоту к ней —
ему
тем лучше!
К труднейшим скалам
он мог
увлечь нас.
Он придавал им
жизнь,
человечность…