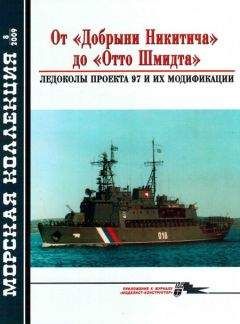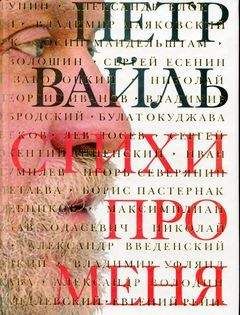Борис Чичибабин - Сияние снегов (сборник)
Судакские элегии
1Когда мы устанем от пыли и прозы,
пожалуй, поедем в Судак.
Какие огромные белые розы
там светят в садах.
Деревня – жаровня. А что там акаций!
Каменья, маслины, осот…
Кто станет от солнца степей домогаться
надменных красот?
Был некогда город алчбы и торговли
со стражей у гордых ворот,
но где его стены и где его кровли?
И где его род?
Лишь дикой природы пустынный кусочек,
смолистый и выжженный край.
От судей и зодчих остался песочек –
лежи загорай.
Чу, скачут дельфины! Вот бестии. Ух ты,
как пляшут! А кто ж музыкант?
То розовым заревом в синие бухты
смеется закат.
На лицах собачек, лохматых и добрых,
веселый и мирный оскал,
и щелкают травы на каменных ребрах
у скаредных скал.
А под вечер ласточки вьются на мысе
и пахнет полынь, как печаль.
Там чертовы кручи, там грозные выси
и кроткая даль.
Мать-вечность царит над нагим побережьем,
и солью горчит на устах,
и дремлет на скалах, с которых приезжим
сорваться – пустяк.
Одним лишь изъяном там жребий плачевен,
и нервы катают желвак:
в том нищем краю не хватает харчевен
и с книгами – швах.
На скалах узорный оплот генуэзцев,
тишайшее море у ног,
да только в том месте я долго наесться,
голодный, не мог.
А все ж, отвергая житейскую нехоть –
такой уж я сроду чудак, –
отвечу, как спросят: «Куда нам поехать?» –
«Езжайте в Судак».
Настой на снах в пустынном Судаке…
Мне с той землей не быть накоротке,
она любима, но не богоданна.
Алчак-Кая, Солхат, Бахчисарай…
Я понял там, чем стал Господень рай
после изгнанья Евы и Адама.
Как непристойно Крыму без татар.
Шашлычных углей лакомый угар,
заросших кладбищ надписи резные,
облезлый ослик, движущий арбу,
верблюжесть гор с кустами на горбу,
и все кругом – такая не Россия.
Я проходил по выжженным степям
и припадал к возвышенным стопам
кремнистых чудищ, див кудлатоспинных.
Везде, как воздух, чуялся Восток –
пастух без стада, светел и жесток,
одетый в рвань, но с посохом в рубинах.
Который раз, не ведая зачем,
я поднимался лесом на Перчем,
где прах мечей в скупые недра вложен,
где с высоты Георгия монах
смотрел на горы в складках и тенях,
что рисовал Максимильян Волошин.
Буддийский поп, украинский паныч,
в Москве француз, во Франции москвич,
на стержне жизни мастер на все руки,
он свил гнездо в трагическом Крыму,
чтоб днем и ночью сердце рвал ему
стоперстый вопль окаменелой муки.
На облаках бы – в синий Коктебель.
Да у меня в России колыбель
и не дано родиться по заказу,
и не пойму, хотя и не кляну,
зачем я эту горькую страну
ношу в крови как сладкую заразу.
О, нет беды кромешней и черней,
когда надежда сыплется с корней
в соленый сахар мраморных расселин,
и только сердцу снится по утрам
угрюмый мыс, как бы индийский храм,
слетающий в голубизну и зелень…
Когда, устав от жизни деловой,
упав на стол дурною головой,
забьюсь с питвом в какой-нибудь клоповник,
да озарит печаль моих поэм
полынный свет, покинутый Эдем –
над синим морем розовый шиповник.
Чуфут-Кале по-татарски значит «Иудейская крепость»
Твои черты вечерних птиц безгневней
зовут во мгле.
Дарю тебе на память город древний –
Чуфут-Кале.
Как сладко нам неслыханное имя
назвать впервой.
Пускай шумит над бедами земными
небес травой.
Недаром ты протягивала ветки
свои к горам,
где смутным сном чернелся город ветхий,
как странный храм.
Не зря вослед звенели птичьи стаи,
как хор светил,
и Пушкин сам наш путь в Бахчисарае
благословил.
Мы в горы шли, сияньем души вымыв,
нам было жаль,
что караваны беглых караимов
сокрыла даль.
Чуфут пустой, как храм над пепелищем,
Чуфут ничей,
и, может быть, мы в нем себе отыщем
приют ночей.
Тоска и память древнего народа
к нему плывут,
и с ними мы сквозь южные ворота
вошли в Чуфут.
Покой и тайна в каменных молельнях,
в дворах пустых.
Звенит кукушка, пахнет можжевельник,
быть хочет стих.
В пустыне гор, где с крепостного вала
обзор широк,
кукушка нам беду накуковала
на долгий срок.
Мне – камни бить, тебе – нагой метаться
на тех холмах,
где судит судьбы чернь магометанства
в ночных чалмах,
где нам не даст и вспомнить про свободу
любой режим,
затем что мы к затравленному роду
принадлежим.
Давно пора не задавать вопросов,
бежать людей.
Кто в наши дни мечтатель и философ –
тот иудей.
И ни бедой, ни грустью не поборот
в житейской мгле,
дарю тебе на память чудный город –
Чуфут-Кале.
«Пребываю безымянным…»
Пребываю безымянным.
Час явленья не настал.
Гениальным графоманом
Межиров меня назвал.
Называй кем хочешь, Мастер.
Нету горя, кроме зла.
Я иду с Парнасом на спор
не о тайнах ремесла.
Верам, школам, магазинам
отрицание неся,
не могу быть веку сыном,
а пустынником – нельзя.
В желтый стог уткнусь иголкой,
чем совать добро в печать.
Пересыльный город Горький,
как Вас нынче величать?
Под следящим волчьим оком,
под недобрую молву
на ковчеге колченогом
сквозь гражданственность плыву.
Бьется крыльями Европа –
наша немочь и родня –
из Всемирного потопа
и небесного огня.
Сядь мне на сердце, бедняжка,
припади больным крылом.
Доживать свое нетяжко:
все прекрасное – в былом.
Мне и слова молвить не с кем,
тает снегом на губах.
Не болтать же с Достоевским,
если был на свете Бах.
Тайных дум чужим не выдам,
а свои – на все плюют.
Между Вечностью и бытом
смотрит в небо мой приют.
Три свечи горят на тризне,
три моста подожжены.
Трех святынь прошу у жизни:
Лили, лада, тишины.
«Сбылась беда пророческих угроз…»
Сбылась беда пророческих угроз,
и темный век бредет по бездорожью.
В нем естество склонилось перед ложью
и бренный разум душу перерос.
Явись теперь мудрец или поэт,
им не связать рассыпанные звенья.
Все одиноки – без уединенья.
Всё – гром, и смрад, и суета сует.
Ни доблестных мужей, ни кротких жен,
а вещий смысл тайком и ненароком…
Но жизни шум мешает быть пророком,
и без того я странен и смешон.
Люблю мой крест, мою полунужду
и то, что мне не выбиться из круга,
что пью с чужим, а гневаюсь на друга,
со злом мирюсь, а доброго не жду.
Мне век в лицо швыряет листопад,
а я люблю, не в силах отстраниться,
тех городов гранитные страницы,
что мы с тобой листали наугад.
Люблю молчать и слушать тишину
под звон синиц и скок веселых белок,
стихи травы, стихи березок белых,
что я тебе в час утренний шепну.
Каких святынь коснусь тревожным лбом?
Чем увенчаю влюбчивую старость?
Ни островка в синь-море не осталось,
ни белой тучки в небе голубом…
Безумный век идет ко всем чертям,
а я читаю Диккенса и Твена
и в дни всеобщей дикости и тлена,
смеясь, молюсь мальчишеским мечтам.
«Нехорошо быть профессионалом…»
Нехорошо быть профессионалом.
Стихи живут, как небо и листва.
Что мастера? Они довольны малым.
А мне, как ветру, мало мастерства.
Наитье чар и свет в оконных рамах,
трава меж плит, тропинка к шалашу,
судьба людей, величье книг и храмов –
мне всё важней всего, что напишу.
Я каждый день зову друзей на ужин.
Мой дождь шумит на множество ладов.
Я с детских лет к овчаркам равнодушен,
дворнягам умным вся моя любовь.
В душе моей хранится много таин
от милых муз, блужданий в городах.
Я только что открыл вас, древний Таллин,
и тихий Бах, и черный Карадаг.
А мастера, как звезды в поднебесье,
да есть ли там еще душа жива?
Но в них порочность опыта и спеси,
за ремеслом не слышно божества.
Шум леса детского попробуй пробуди в них,
по дню труда свободен их ночлег.
А мне вставать мученье под будильник,
а засыпать не хочется вовек.
Нужде и службе верен поневоле,
иду под дождь, губами шевелю.
От всей тоски, от всей кромешной боли
житье душе, когда я во хмелю.
Мне пить с друзьями весело и сладко,
а пить один я сроду не готов, –
а им запой полезен, как разрядка
после могучих выспренных трудов.
У мастеров глаза, как белый снег, колючи,
сквозь наши ложь и стыд их воля пронесла,
а на кресте взлететь с голгофской кручи –
у смертных нет такого ремесла.
Посошок на дорожку Леше Пугачеву