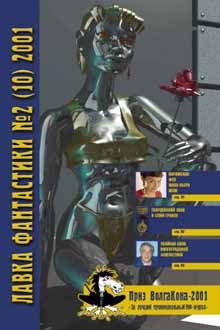Игорь Северянин - Том 3. Менестрель. Поэмы
Часть II
1Завод картонный тети Лизы
На Андоге, в глухих лесах,
Таил волшебные сюрпризы
Для горожан, и в голосах
Увиденного мной впервые
Большого леса был призыв
К природе. Сердцем ощутив
Ее, запел я; яровые
Я вскоре стал от озимых
Умело различать; хромых
Собак жалеть, часы на псарне
С борзыми дружно проводя,
По берегам реки бродя,
И все светлей, все лучезарней
Вселенная казалась мне.
Бывал я часто на гумне,
Шалил среди веселой дворни,
И через месяц был не чужд
Ее, таких насущных, нужд.
И понял я, что нет позорней
Судьбы бесправного раба,
И втайне ждал, когда труба
Непогрешимого Протеста
Виновных призовет на суд,
Когда не будет в жизни места
Для тех, кто кровь рабов сосут…
Пока же, в чаяньи свободы,
В природу я вперил свой взгляд,
Смотрел на девьи хороводы,
Кормил доверчивых цыплят.
Где вы теперь, все плимутроки,
Вы, орпигоны, фавероль?
Вы дали мне свои уроки,
Свою сыграли в жизни роль.
И уж, конечно, дали знаний
Не меньше, чем учителя,
Глаза в лесу бродивших ланей
И реканье коростеля…
Уставши созерцать старушню,
Без ощущений, без идей,
Я часто уходил в конюшню,
Взяв сахара для лошадей.
Меня встречали ржаньем морды:
Касатка, Горка и Облом
Со мною были меньше горды,
Чем ты, манерный теткин дом…
Сближала берега плотина.
На правом берегу реки
Темнела фабрики махина,
И воздух резали свистки.
А дом и все жилые стройки
На левой были стороне,
Где повара и судомойки
По вечерам о старине,
Сойдясь, любили погуторить,
Попеть, потанцевать, поспорить
И прогуляться при луне.
Любил забраться я в каретник,
Где гнил заброшенный дормез.
Со мною Гришка-однолетник,
Шалун, повеса из повес,
Сын рыжей скотницы Евгеньи;
И там, средь бричек, тюльбэри,
Мы, стибрив в кладовой варенье,
В пампасы — черт нас побери! —
Катались с ним, на месте стоя…
Что нам Америка! пустое!
Нас безлошадный экипаж
Вез через горы, через влажь
Морскую. Детство золотое!
О, детство! Если бы не грусть
По матери, чьи наизусть
Почти выучивал я письма,
Я был бы счастлив, как Адам
До яблока… Теперь я дам
Гришутке, — как ни торопись мы
Из Аргентины в нашу глушь,
К обеду не поспеем! — куш:
На пряники и мед полтинник,
А сам к балкону, дай бог прыть,
Не слушая, что говорить
Вослед мне будет дрозд-рябинник.
А в это время шла на Суде
Постройка фабрики другой,
Где целый день трудились люди,
Согбенные от нош дугой.
Завод свой тетка продавала:
Он был турбинный, и доход
Не приносил не первый год;
И опасаясь до провала
Все дело вскоре довести,
И после планов десяти,
Она решила паровую
Построить фабрику в верстах
В семи от прежней, на паях
С отцом, и, славу мировую
Пророка предприятью, в лес
Присудский взоры обратила.
Так, внемля ей, отец мой влез
В невыгодную сделку. Мило
Начало было, но, спустя
Четыре года, все распалось
И тетушка одна осталась,
Об этом, впрочем, не грустя;
В том удивительного мало:
Отец мой был не коммерсант,
В наживе слабо понимала
И тетушка: ведь прейс-курант
Сортов картона — не Жорж Занд!..
На новь! Прощай, завод турбинный
И дюфербреров провода.
И в час закатный, в час рубинный,
Ты, тихой Андоги вода!
От мглы людского пересуда
Приди, со мной повечеряй
В таежный край, где льется Суда…
Но стой, ты знаешь ли тот край?
Ты, выросший в среде уродской,
В такой типично-городской,
Не хочешь ли в край новгородский
Прийти со всей своей тоской?
Вообрази, воображенья
Лишенный грез моих стези,
Восторженного выраженья
Причины ты вообрази.
Представь себе, представить даже
Ты не умеющий, в борьбе
Житейской, мозгу взяв бандажи
Наркотиков, представь себе
Леса дремучие верст на сто,
Снега с корою синей наста,
Прибрежных скатов крутизну
И эту раннюю весну,
Снегурку нашу голубую,
Такую хрупкую, больную,
Всю целомудрие, всю — грусть…
Пусть я собой не буду, пусть
Я окажусь совсем бездарью,
Коль в строфах не осветозарю
И пламенно не воспою
Весну полярную свою!
Лед на реке, себя вздымая,
Треща, дрожа и трепеща,
Лишь ждет сигнального праща:
Идти к морям навстречу мая.
Лед иззелено-посинел,
Разокнился весь полыньями…
Вот трахнул гром по льду! Конями
Помчались льдины, снежность тел
Своих ледяных тесно сгрудив,
Друг друга на пути дробя,
Свои бока обызумрудив
В лучах светила, и себя
В весеннем солнце растопляя…
И вот пошла река, гуляя
Своей разливною гульбой!
Ты потрясен, Господь с тобой?
Ты не находишь от восторга
Слов, в междометья счастья влив?
О, житель городского торга,
Радиостанции и морга,
Ты видел ли реки разлив,
Когда мореют, водянеют
Все нивы, нажити, луга,
И воды льдяно пламенеют,
Свои теряя берега?
В них отраженные, синеют
Стволы деревьев, а стога,
Телеги, сани и поленья
Среди стволов плывут в оленьи
Трущобы, в дебри; и рога
Прижав к спине, в испуге, лоси
Бегут, спасаясь от воды,
Передыхая на откосе
Мгновенье: тщетные труды!
Вода настигнет все, и смоет
Оленей, зайцев и лисиц,
И тем, кого гора не скроет,
Пред нею пасть придется ниц…
С утра до вечера кошовник
По Суде гонится в Шексну.
Цвет лиц алее, чем шиповник,
У девок, славящих весну
Своими песнями лесными,
Недремлющих у потесей,
И Божье раздается имя
Над Судой быстроводной всей.
За ними «тихвинки» и баржи
Спешат, стремглав, вперегонки,
И мужички — живые шаржи, —
За поворотами реки,
Извилистой и прихотливой,
Следят, все время начеку,
За скачкой бешено гульливой
Реки, тревожную тоску
В ней пробуждающей. На гонку
С расплыва налетит баржа,
Утопит на ходу девчонку,
Девчонкою не дорожа…
И вновь, толпой людей рулима,
Несется по теченью вниз,
Незримой силою хранима
Возить товары на Тавриз
По Волге через бурный Каспий,
Сама в Олонецкой родясь…
Чем мужичок наш не был распят!
Острог, сивуха, рабство, грязь,
Невежество, труд непосильный —
Чего не испытал мужик…
Но он восстал из тьмы могильной,
Стоический, любвеобильный, —
Он исторически-велик!
Теперь, покончив с ледоходом,
Со сплавом леса и судов,
Построенных для городов
Приволжских, голод «бутербродом
Без масла» скромно утоля,
Я перейду к весне священной,
Крыля душою вдохновенной
К вам, пробужденные поля.
Дочь Ветра и Зимы, Снегурка, —
Голубожильчатый Ледок —
Присела, кутаясь в платок…
Как солнечных лучей мазурка
Для слуха хрупкого резка!
У белоствольного леска
Березок, сидя на елани,
Она глядит глазами лани,
Как мчится грохотно река.
Пред нею вьются завитушки
Еще недавно полых вод
Снегурка, сидя на горушке
С фиалками, как на подушке
Лилово-шелковой, поет.
Она поет, и еле слышно
Хрусталит трели голосок,
Ей грустно внемлет беловишня,
Цветы роняя на песок.
И белорозые горбуньи,
Невесты — яблони, чей смят
Печально лик, внемля певунье,
Льют сидровый свой аромат.
Весна поет так ниочемно,
И в ниочемности ее
Таится нечто, что огромно,
Как все земное бытие.
Весна поет. Лишь алый кашель
Порой врывается к ней в песнь.
Ее напев сердца онашил.
Ах, нашею он сделал веснь!
Алмаз в глазах Весны блистает:
Осолнеченная слеза.
Весна поет и в песне тает…[6]
И вскоре в воздухе глаза
Одни снегурочкины только
Сияют, ширятся, растут;
И столько нежности в них, столько
Предчувствия твоих минут,
Предсмертье, столько странной страсти,
Неразделенной и больной,
Что разрывается на части
Душа весной перед Весной!..
И чем полней вокруг расцвета
И жизни сила, чем слышней
Шаги спешащего к нам лета,
В горячей роскоши своей,
Тем шире грусть в oчax весеньих,
И вскоре поднебесье сплошь
Объято ими: жизни ложь
В весенних кроется мгновеньях:
«Живой! Подумай: ты умрешь!..»
Череповец, уездный город,
Над Ягорбой расположон,
И в нем, среди косматых бород,
Среди его лохматых жен,
Я прожил три зимы в Реальном,
Всегда считавшемся опальным
За убиение царя
Воспитанником заведенья,
Учась всему и ничему
(Прошу покорно снисхожденья!..)
Люблю на Севере зиму,
Но осень, и весну, и лето
Люблю не меньше. О поре
О каждой много песен спето.
Приехав в город в сентябре,
Заделался я квартирантом
Учителя, и потекли, —
Как розово их ни стекли! —
Дни серенькие. Лаборантам,
Чиновникам и арестантам
Они знакомы, и про них
Особо нечего сказать мне.
По праздникам ходили к Фатьме,
К гадалке (гривенник всего
Она брала, и оттого
Был сказ ее так примитивен…
Ах, отчего не дал семь гривен
Я ей тогда, и на сто лет
Вперед открыла бы гадалка
Число мной съеденных котлет!..)
Еще нас развлекала галка,
Что прыгала среди сорок
На улице, и поросенок,
На солнце гревшийся, спросонок,
Как новоявленный пророк,
Перед театром лежа, хрюкал;
Затем я помню, вроде кукол
Туземных барышень; затем,
Просыпливая горсти тем,
Сажусь не в городские санки,
А в наш каретковый возок,
И, сделав ручкой черепанке,
Перекрестясь на образок,
Лечу на сумасшедшей тройке
Лесами хвойными, гуськом,
К заводской молодой постройке
С Алешей, сверстником-князьком!
Уже проехали Нелазу,
За нею Шулому, и вот,
Поворотив направо сразу,
Тимошка к дому подает
Не порожнем, а с седоками…
В сенях встречают нас гурьбой,
С протянутыми к нам руками,
Снимая шубы, девки-бой.
Мы не озябли: греет славно
Тела сибирская доха!
Нам любопытно и забавно
Шнырять по комнатам. Уха
С лимоном, жирная, стерляжья,
Припомидорена остро.
И шейка Санечки лебяжья
Ко мне сгибается хитро.
И прыгает во взорах чертик,
Когда она несет к столу
Угря, лежащего, как кортик,
Сотэ, ризото, пастилу!
Был повар старший из яхт-клуба,
Из английского был второй.
Они кормили так порой,
Что можно было скушать губы…
Паштет из кур и пряженцы;
И рябчики с душком, с начинкой,
Икрой прослоенной, пластинкой
Филе делящей; варенцы;
Сморчки под яйцами крутыми;
Каштаненные индюки;
Орех под сливами густыми, —
Шедевры мяса и муки!..
Когда, бывало, к нам на Суду
In corpore,[7] съезжался суд,
В пустую не смотрел посуду:
Все гости пальцы обсосут,
Смакуя кушанья, бывало,
И, уедаясь до отвала,
С почтеньем смотрят на сосуд,
В котором паровую стерлядь
К столу торжественно несут…
Но и мортира ведь ожерлить
Не может большего ядра,
Чем то, каким она бодра…
Так и желудок — как мортира —
Имеет норму для себя…
Сопя носами и трубя,
Судейцы, — с лицами сатира,
Верблюда, кошки и козла, —
Боясь обеденного зла,
Ползут по комнатам на отдых,
Валясь в истоме на кровать,
И начинают горевать
О мене сытых, боле бодрых
Обедах в городе своем,
Которых мы не воспоем…
Но как же проводил я время
В присудской Сойволе своей?
Ах, вкладывал я ногу в стремя,
Среди оснеженных полей
Катаясь на гнедом Спирютке,
Порой, на паре быстрых лыж,
Под девий хохоток и шутки, —
Поди, поймай меня! шалишь! —
Носился вихрем вдоль околиц;
А то скользил на лед реки;
Проезжей тройки колоколец
Звучал вдали. На огоньки
Шел утомленный богомолец,
И вечеряли старики.
Ходил на фабрику, в контору,
И друг мой, старый кочегар,
Любил мне говорить про пору,
Когда еще он не был стар.
Среди замусленных рабочих
Имел я множество друзей,
Цигарку покрутить охочих,
Хозяйских подразнить гусей,
Со мною взросло покалякать
О недостатках и нужде,
Бесслезно кой-о-чем поплакать
И посмеяться кое-где…
Наш дом громадный, двухэтажный, —
О грусть, глаза мне окропи! —
Был разбревенчатым, с Колпи
На Суду переплавлен. Важный
И комфортабельный был дом…
О нем, окрест его, легенды
Передавались, но потом,
Во времена его аренды
Одной помещицей, часть их
Перезабылась, часть другую
Теперь, когда страх в сердце стих,
Я вам, пожалуй, отолкую:
В том доме жили семь сестер.
Они детей своих внебрачных
Бросали на дворе в костер,
А кости в боровах чердачных
Муравили. По смерти их
Помещик с молодой женою
Там зажил. Призраков ночных
Вопль не давал чете покою:
Рыдали сонмы детских душ,
Супругов вопли те терзали, —
Зарезался в безумьи муж
В белоколонном верхнем зале;
Жена повесилась. Сосед
Помещика, один крестьянин,
Рассказывал жене Татьяне:
«По вечерам, лишь лунный свет,
Любви и нечисти рассадник,
Дом озаряет, — на крыльцо
Брильянтовый въезжает всадник,
Лунеет мертвое лицо…»
И в этом-то трагичном доме,
Где пустовал второй этаж,
Я, призраков невольный страж,
Один жил наверху, где, кроме
Товарищей, что иногда
Со мной в деревню наезжали,
Бездушье полное. Визжали
Во мне все нервы, и, стыда
Не испытав пред чувством страха,
Я взрослых умолял: внизу
Меня оставить, но грозу
Встречая, шел наверх, где плаха
Ночного ужаса ждала
Ребенка: тени из угла
Шарахались, и рукомойник,
Заброшенный на чердаке,
Педалил, каплил: то покойник,
Смывая пятна на руке
Кровавые, стонал… В подушку
Я зарывался с головой,
Боясь со столика взять кружку
С животворящею водой.
О, если б не тоска по маме
И не ночей проклятых жуть,
Я мог бы, согласитесь сами,
С восторгом детство вспомянуть!
Но этот ужас беспрестанный,
Кошмар, наряженный в виссон…
Я видел в детстве сон престранный…
Не правда ли, престранный сон?
Так я лежу в своей кроватке,
Дрожа от ног до головы.
Прекрасны днями наши святки,
А по ночам — одно «увы».
Людской натуры странно свойство:
Я все ночное беспокойство
При первых солнечных лучах
Позабываю. Весь мой страх
Ночной мне кажется нелепым,
И я, бездумно радый дню,
Над дико страшным ночью склепом
Посмеиваюсь и труню.
Взяв верного вассала — Гришку,
Мы превращаемся в «чертей»
И отправляемся вприпрыжку
Пугать и взрослых, и детей.
Нам попадаются по группам
Другие ряженые, нас
Пугая в свой черед, как раз,
И, знаете ли, в этом глупом
Обычае — не мало крас!
Луна. Мороз. И силы вражьи —
В интерпретации людской
Pогa чертей и рожи яжьи,
Смешок и гутор воровской…
Хвостом виляя, скачет княжич, —
Детей заводских будоражич, —
Трубя в охотничий рожок,
И залепляет свой снежок
В затылок Гришке-«дьяволенку»,
Преследующему девчонку,
Кричащему, как истый бес,
Враг и науки, и небес…
Без нежных женственных касаний
Душа — как бессвятынный храм,
О горничной, блондинке Сане,
Мечтаю я по вечерам.
Когда волнующей походкой
Идет мне стлать постель она,
Мне мнится: в комнату весна
Врывается, и с грустью кроткой
Я, на кушетке у окна
Майн Ридовскую «Квартеронку»
Читавший, закрываю том,
С ней говоря о сем-о том,
Смотря на спелую коронку
Ее прически под чепцом
«Белее снега». И лицом
Играя робко, но кокетно,
Она узор любви канвит,
Смеется взрывчато-ракетно,
Приняв задорно-скромный вид.
Теперь, спустя лет двадцать, в сане
Высоком, знав любовь княгинь,
Я отвожу прислуге Сане,
Среди былых моих богинь,
Почетное, по праву, место,
И здесь, в стране приморской эста,
Благодаря, быть может, ей,
Согревшей нежной лаской женской
Дни отрочества, все больней
Мечтаю о душе вселенской
Великой родины своей!
Давали право мне по веснам
Увидеть в Петербурге мать,
И я, послав привет свой соснам,
Старался пароход поймать
Ближайший, несся через Рыбинск,
Туда, к столице на Неве.
Был детский лик мой обулыблен,
Скорбящий вечно о вдове
Замужней, все отдавшей мужу —
И положенье, и любовь…
Но, впрочем, кажется, я ужу
Чего не следует… Голгофь
Себя, Голгофе обреченный!
Неси свой крест, свершай свой труд!
Есть суд высоко-вознесенный,
Где все рассудят, разберут…
Пробыв у мамы три недели,
Я возвращался, — слух наструнь! —
На Суду, где уже Июнь
Лежал на шелковой постели
Полей зеленых; и, закрыв
Глаза, в истоме, на обрыв
Речной смотря, стонал о неге,
И, чувственную резеду
Вдыхая, звал в полубреду
Свою неясную. Побеги
Травинок, ставшие травой,
Напомнили мне возраст мой:
Так отроком ставал ребенок.
И солнце, чей лучисто-звонок
И ослепителен был лик,
Смеялось слишком откровенно
И поощрительно: воздвиг
Кузине Лиле вдохновенно,
Лучей его заслышав клик,
В душе окрепшей, возмужалой,
Любовь двенадцатой весны, —
И эта-то любовь, пожалуй,
Мои оправдывала сны.
— Я видел в детстве сон престранный —
Своей ненужной глубиной,
Своею юнью осиянной
И первой страстностью больной…
Жемчужина утонков стиля,
В теплице взрощенный цветок,
Тебе, о лильчатая Лиля,
Восторга пламенный поток!
Твои каштановые кудри,
Твои уста, твой гибкий торс —
Напоминает мне о Лувре
Дней короля Louis Quatorze.[8]
Твои прищуренные глазы —
…Я не хочу сказать глаза!.. —
Таят на дне своем экстазы,
Присудская моя лоза.
Исполнен голос твой мелодий,
В нем — смех, ирония, печаль.
Ты — точно солнце на восходе
Узыв в болезненную даль.
Но, несмотря на все изыски,
Ты сердцем девственно проста.
Классически твои записки,
Где буква каждая чиста.
Любовью сердце оскрижалясь,
Полно надзвездной синевы.
Весною в Сойволу съезжались
На лето гости из Москвы:
Отец кузины, дядя Миша,
И шестеро его детей,
Сказать позвольте, обезмыша, —
Как выразился раз в своей
Балладе старичок Жуковский, —
И обесстенив весь этаж,
Где жить, в компании бесовской,
Изволил в детстве автор ваш.
Затем две пары инженеров,
Три пары тетушек и дядь…
Ах, рыл один из них жене ров,
И сам в него свалился, глядь!..
Тогда на троечной долгуше
Сооружались пикники.
Когда-нибудь в лесные глуши
На берегах моей реки,
По приказанью экономки,
Грузили на телегу снедь.
А тройка, натянув постромки,
Туда, где властвовал медведь,
Распыливалась. Пристяжные,
Олебедив изломы шей,
Тимошки выкрики стальные
Впивали чуткостью ушей.
Хрипели кони и бесились,
Склоняли морды до земли.
Струи чьего-то амарилис
Незримо в воздухе текли…
В лесу — грибы, костры, крюшоны
И русский хоровой напев.
Там в дев преображались жены,
Преображались жены в дев.
Но девы в жен не претворились,
Не претворялись девы в жен,
Чем аморальный амарилис
И был, казалось, поражен.
Сын тети Лизы, Виктор Журов,
Мой и моей Лилит кузэн,
Любитель в музыке ажуров,
Отверг купеческий безмен:
Студентом университета
Он был, и славный бы юрист
Мог выйти из него, но это
Не вышло: слишком он артист
Душой своей. Улыбкой скаля
Свой зуб, дала судьба успех:
Теперь он режиссер «La Scala»
И тоже на виду у всех…
О мой Vittgrio Andoga!
Не ты ль из Андоги возник?…
Имел он сеттера и дога,
Охотился, писал дневник.
Был Виктор страстным рыболовом:
Он на дощанике еловом
Нередко ездил с острогой;
Лая изрядно гордых планов,
Ловил на удочку паланов;
Моей стихии дорогой —
Воды — он был большой любитель,
И часто белоснежный китель
На спусках к голубой реке
Мелькал: то с удочкой в руке
Он рыболовить шел. Ловите
Момент, когда в разгаре клёв!
Благодаря, быть может, Вите,
И я — заправский рыболов.
В моей благословенной Суде —
В ту пору много разных рыб,
Я, постоянно рыбу удя,
Знал каждый берега изгиб.
Лещи, язи и тарабары,
Налимы, окуни, плотва.
Ах, можно рыбою амбары
Набить, и это не слова!..
Водились в Суде и стерлядки,
И хариус среди стремнин…
Я убежал бы без оглядки
В край голубых ее глубин!
…О Суда! Голубая Суда,
Ты, внучка Волги! дочь Шексны!
Как я хочу к тебе отсюда
В твои одебренные сны!..
Был месяц, скажем мы, центральный,
Так называемый — июль.
Я плавал по реке хрустальной
И, бросив якорь, вынул руль.
Когда развесельная стихла
Вода, и настоялась тишь,
И поплавок, качаясь рыхло, —
Ты просишь: «И его остишь!» —
В конце концов на месте замер,
Увидел я в зеркальной раме
Речной — двух небольших язей,
Холоднокровных, как друзей,
Спешивших от кого-то в страхе;
Их плавники давали взмахи.
За ними спешно головли
Лобастомордые скользили,
И в рыбьей напряженной силе
Такая прыть была. Цели
Сорожек, точно на буксире,
И, помню, было их четыре.
И вдруг усастый черный черт
Чуть не уткнулся носом в борт,
Свои усища растопырив,
Усом задев мешок с овсом:
Полуторасаженный сом.
Гигант застыл в оцепененьи,
И круглые его глаза,
С моими встретясь на мгновенье,
Поднялись вверх, и два уса
Зашевелились в изумленьи,
Казалось — над открытым ртом…
Сом ждал, слегка руля хвостом.
Я от волненья чуть не выпал
Из лодки и, взмахнув веслом,
Удары на него посыпал,
Идя в азарте напролом.
Но он хвостом по лодке хлопнул
И окатил меня водой,
И от удара чуть не лопнул
Борт крепкий лодки молодой.
Да: «молодой». Вы ждете «новой»,
Но так сказать я не хочу!
Наш поединок с ним суровый
Так и закончился вничью.
Как девушка передовая,
Любила волны ячменя
Моя Лилит и, не давая
Ей поводов понять меня
С моей любовью к ней, сторожко
Душой я наблюдал за ней,
И видел: с Витею немножко,
Чем с прочими, она нежней…
Они, годами однолетки,
Лет на пять старшие меня,
Держались вместе, и в беседке,
Бальмонтом Надсона сменя,
В те дни входившим только в моду
«Под небом северным», природу
Любя, в разгаре златодня
Читали часто, или в лодке
Катались вверх за пару верст,
Где дядя строил дом, и прост
Был тон их встреч, и нежно-кротки
Ее глаза, каким до звезд,
Казалось, дела было мало:
Она улыбчиво внимала
Одной земле во всех ее
Печалях и блаженствах. Чье,
Как не ее боготворенье
Земли передалось и мне?
И оттого стихотворенья
Мои — не только о луне,
Как о планете: зачастую
Их тон и чувственный, и злой,
И если я луну рисую,
Луна насыщена землей…
Изнемогу и обессилю,
Стараясь правду раздобыть:
Как знать, любил ли Витя Лилю?
Но Лиля — Витю… может быть!..
Росой оранжевого часа,
Животворяща, как роса,
Она, кем вправе хвастать раса, —
Ее величье и краса, —
Ко мне идет, меня олиля,
Измиловав и умиля,
Кузина, лильчатая Лиля,
Единственная, как земля!
Идет ко мне наверх, по просьбе
Моей, и, подойдя к окну,
Твердит: «Ах, если мне пришлось бы
Здесь жить всегда! Люблю весну
На Суде за избыток грусти,
И лето за шампанский смех!..
Воображаю, как на устьи
Красив зимы пушистый мех!» —
Смотря в окно на синелесье,
Задрапированная в тюль,
Вздыхает: «Ах, Мендэс Катюль…»
И обрывает вдруг: «Ну, здесь я…
Ты что-то мне сказать хотел?…»
И я, исполнен странной власти,
Ей признаюсь в любви и страсти
И брежу о слияньи тел…
Она бледнеет, как-то блекнет,
Улыбку болью изломав,
Глаза прищуря, душу окнит
И шепчет: «Милый, ты не прав:
Ты так любить меня не можешь…
Не смеешь… ты не должен… ты
Напрасно грезишь и тревожишь
Себя мечтами: те мечты,
Увы, останутся мечтами, —
Я не могу… я не должна
Тебя любить… ну, как жена…» —
И подойдя ко мне, устами
Жар охлаждает мой она,
Меня в чело целуя нежно,
По-сестрински, и я навзрыд
Рыдаю: рай навек закрыт,
И жизнь отныне безнадежна…
Недаром мыслью многогранной
Я плохо верил в унисон,
Недаром в детстве сон престранный
Я видел, вещий этот сон…
Настанут дни — они обманут
И необманные мечты,
Когда поблекнут и увянут
Неувяданные цветы.
О, знай, живой: те дни настанут,
И всю тщету познаешь ты…
Отрадой грезил ты, — не падай
В уныньи духом, подожди:
Неугасимою лампадой
Надежда теплится в груди,
Сияет снова даль отрадой,
Любовь и Слава — впереди!
Часть III