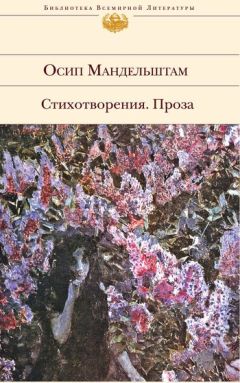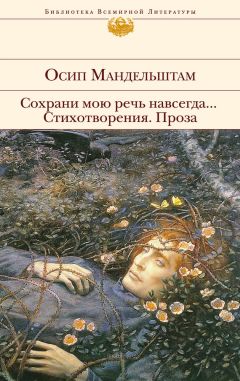Осип Мандельштам - Стихотворения
* * *
Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето.
С дроботом мелким расходятся улицы в чоботах
узких железных.
В черной оспе блаженствуют кольца бульваров…
Нет на Москву и ночью угомону,
Когда покой бежит из-под копыт…
Ты скажешь – где-то там на полигоне
Два клоуна засели – Бим и Бом,
И в ход пошли гребенки, молоточки,
То слышится гармоника губная,
То детское молочное пьянино:
– До-ре-ми-фа
И соль-фа-ми-ре-до.
Бывало, я, как помоложе, выйду
В проклеенном резиновом пальто
В широкую разлапицу бульваров,
Где спичечные ножки цыганочки в подоле
бьются длинном,
Где арестованный медведь гуляет —
Самой природы вечный меньшевик.
И пахло до отказу лавровишней…
Куда же ты? Ни лавров нет, ни вишен…
Я подтяну бутылочную гирьку
Кухонных крупно скачущих часов.
Уж до чего шероховато время,
А все-таки люблю за хвост его ловить,
Ведь в беге собственном оно не виновато
Да, кажется, чуть-чуть жуликовато…
Чур, не просить, не жаловаться! Цыц!
Не хныкать – для того ли разночинцы
Рассохлые топтали сапоги, чтоб я теперь
их предал?
Мы умрем как пехотинцы,
Но не прославим ни хищи, ни поденщины,
ни лжи.
Есть у нас паутинка шотландского старого пледа.
Ты меня им укроешь, как флагом военным,
когда я умру.
Выпьем, дружок, за наше ячменное горе,
Выпьем до дна…
Из густо отработавших кино,
Убитые, как после хлороформа,
Выходят толпы – до чего они венозны,
И до чего им нужен кислород…
Пора вам знать, я тоже современник,
Я человек эпохи Москвошвея, —
Смотрите, как на мне топорщится пиджак,
Как я ступать и говорить умею!
Попробуйте меня от века оторвать, —
Ручаюсь вам – себе свернете шею!
Я говорю с эпохою, но разве
Душа у ней пеньковая и разве
Она у нас постыдно прижилась,
Как сморщенный зверек в тибетском храме:
Почешется и в цинковую ванну.
– Изобрази еще нам, Марь Иванна.
Пусть это оскорбительно – поймите:
Есть блуд труда, и он у нас в крови.
Уже светает. Шумят сады зеленым телеграфом,
К Рембрандту входит в гости Рафаэль.
Он с Моцартом в Москве души не чает —
За карий глаз, за воробьиный хмель.
И словно пневматическую почту
Иль студенец медузы черноморской
Передают с квартиры на квартиру
Конвейером воздушным сквозняки,
Как майские студенты-шелапуты.
* * *
Еще далеко мне до патриарха,
Еще на мне полупочтенный возраст,
Еще меня ругают за глаза
На языке трамвайных перебранок,
В котором нет ни смысла, ни аза:
Такой-сякой! Ну что ж, я извиняюсь,
Но в глубине ничуть не изменяюсь.
Когда подумаешь, чем связан с миром,
То сам себе не веришь: ерунда!
Полночный ключик от чужой квартиры,
Да гривенник серебряный в кармане,
Да целлулоид фильмы воровской.
Я как щенок кидаюсь к телефону
На каждый истерический звонок.
В нем слышно польское: «дзенкую, пане»,
Иногородний ласковый упрек
Иль неисполненное обещанье.
Все думаешь, к чему бы приохотиться
Посереди хлопушек и шутих, —
Перекипишь, а там, гляди, останется
Одна сумятица и безработица:
Пожалуйста, прикуривай у них!
То усмехнусь, то робко приосанюсь
И с белорукой тростью выхожу;
Я слушаю сонаты в переулках,
У всех ларьков облизываю губы,
Листаю книги в глыбких подворотнях —
И не живу, и все-таки живу.
Я к воробьям пойду и к репортерам,
Я к уличным фотографам пойду, —
И в пять минут – лопаткой из ведерка —
Я получу свое изображенье
Под конусом лиловой шах-горы.
А иногда пущусь на побегушки
В распаренные душные подвалы,
Где чистые и честные китайцы
Хватают палочками шарики из теста,
Играют в узкие нарезанные карты
И водку пьют, как ласточки с Ян-дзы.
Люблю разъезды скворчащих трамваев,
И астраханскую икру асфальта,
Накрытую соломенной рогожей,
Напоминающей корзинку асти,
И страусовы перья арматуры
В начале стройки ленинских домов.
Вхожу в вертепы чудные музеев,
Где пучатся кащеевы Рембрандты,
Достигнув блеска кордованской кожи,
Дивлюсь рогатым митрам Тициана
И Тинторетто пестрому дивлюсь
За тысячу крикливых попугаев.
И до чего хочу я разыграться,
Разговориться, выговорить правду,
Послать хандру к туману, к бесу, к ляду,
Взять за руку кого-нибудь: будь ласков,
Сказать ему: нам по пути с тобой.
* * *
Довольно кукситься! Бумаги в стол засунем!
Я нынче славным бесом обуян,
Как будто в корень голову шампунем
Мне вымыл парикмахер Франсуа.
Держу пари, что я еще не умер,
И, как жокей, ручаюсь головой,
Что я еще могу набедокурить
На рысистой дорожке беговой.
Держу в уме, что нынче тридцать первый
Прекрасный год в черемухах цветет,
Что возмужали дождевые черви
И вся Москва на яликах плывет.
Не волноваться. Нетерпенье – роскошь,
Я постепенно скорость разовью —
Холодным шагом выйдем на дорожку —
Я сохранил дистанцию мою.
Фаэтонщик
На высоком перевале
В мусульманской стороне
Мы со смертью пировали —
Было страшно, как во сне.
Нам попался фаэтонщик,
Пропеченный, как изюм,
Словно дьявола погонщик,
Односложен и угрюм.
То гортанный крик араба,
То бессмысленное «цо», —
Словно розу или жабу,
Он берег свое лицо:
Под кожевенною маской
Скрыв ужасные черты,
Он куда-то гнал коляску
До последней хрипоты.
И пошли толчки, разгоны,
И не слезть было с горы —
Закружились фаэтоны,
Постоялые дворы…
Я очнулся: стой, приятель!
Я припомнил – черт возьми!
Это чумный председатель
Заблудился с лошадьми!
Он безносой канителью
Правит, душу веселя,
Чтоб вертелась каруселью
Кисло-сладкая земля…
Так, в Нагорном Карабахе,
В хищном городе Шуше
Я изведал эти страхи,
Соприродные душе.
Сорок тысяч мертвых окон
Там видны со всех сторон,
И труда бездушный кокон
На горах похоронен.
И бесстыдно розовеют
Обнаженные дома,
А над ними неба мреет
Темно-синяя чума.
* * *
Сегодня можно снять декалькомани,
Мизинец окунув в Москву-реку,
С разбойника Кремля. Какая прелесть
Фисташковые эти голубятни:
Хоть проса им насыпать, хоть овса…
А в недорослях кто? Иван Великий —
Великовозрастная колокольня —
Стоит себе еще болван болваном
Который век. Его бы за границу,
Чтоб доучился… Да куда там! Стыдно!
Река Москва в четырехтрубном дыме
И перед нами весь раскрытый город:
Купальщики-заводы и сады
Замоскворецкие. Не так ли,
Откинув палисандровую крышку
Огромного концертного рояля,
Мы проникаем в звучное нутро?
Белогвардейцы, вы его видали?
Рояль Москвы слыхали? Гули-гули!
Мне кажется, как всякое другое,
Ты, время, незаконно. Как мальчишка
За взрослыми в морщинистую воду,
Я, кажется, в грядущее вхожу,
И, кажется, его я не увижу…
Уж я не выйду в ногу с молодежью
На разлинованные стадионы,
Разбуженный повесткой мотоцикла,
Я на рассвете не вскочу с постели,
В стеклянные дворцы на курьих ножках
Я даже тенью легкой не войду.
Мне с каждым днем дышать все тяжелее,
А между тем нельзя повременить…
И рождены для наслажденья бегом
Лишь сердце человека и коня.
И Фауста бес – сухой и моложавый —
Вновь старику кидается в ребро
И подбивает взять почасно ялик,
Или махнуть на Воробьевы горы,
Иль на трамвае охлестнуть Москву.
Ей некогда. Она сегодня в няньках.
Все мечется. На сорок тысяч люлек
Она одна – и пряжа на руках.
* * *
Там, где купальни, бумагопрядильни
И широчайшие зеленые сады,
На реке Москве есть светоговорильня
С гребешками отдыха, культуры и воды.
Эта слабогрудая речная волокита,
Скучные-нескучные, как халва, холмы,
Эти судоходные марки и открытки,
На которых носимся и несемся мы.
У реки Оки вывернуто веко,
Оттого-то и на Москве ветерок.
У сестрицы Клязьмы загнулась ресница,
Оттого на Яузе утка плывет.
На Москве-реке почтовым пахнет клеем,
Там играют Шуберта в раструбы рупоров.
Вода на булавках и воздух нежнее
Лягушиной кожи воздушных шаров.
Ламарк