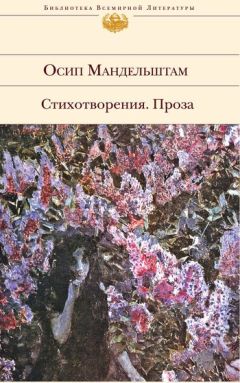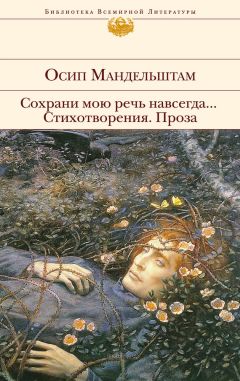Осип Мандельштам - Стихотворения
* * *
Мы с тобой на кухне посидим,
Сладко пахнет белый керосин;
Острый нож да хлеба каравай…
Хочешь, примус туго накачай,
А не то веревок собери
Завязать корзину до зари,
Чтобы нам уехать на вокзал,
Где бы нас никто не отыскал.
* * *
Ma voia aigre et fausse…
P. Verlain[4]Я скажу тебе с последней
Прямотой:
Все лишь бредни – шерри-бренди, —
Ангел мой.
Там, где эллину сияла
Красота,
Мне из черных дыр зияла
Срамота.
Греки сбондили Елену
По волнам,
Ну, а мне – соленой пеной
По губам.
По губам меня помажет
Пустота,
Строгий кукиш мне покажет
Нищета.
Ой ли, так ли, дуй ли, вей ли —
Все равно;
Ангел Мэри, пей коктейли,
Дуй вино.
Я скажу тебе с последней
Прямотой:
Все лишь бредни – шерри-бренди, —
Ангел мой.
* * *
Колют ресницы. В груди прикипела слеза.
Чую без страху, что будет и будет гроза.
Кто-то чудной меня что-то торопит забыть.
Душно – и все-таки до смерти хочется жить.
С нар приподнявшись на первый раздавшийся
звук,
Дико и сонно еще озираясь вокруг,
Так вот бушлатник шершавую песню поет
В час, как полоской заря над острогом встает.
* * *
За гремучую доблесть грядущих веков,
За высокое племя людей, —
Я лишился и чаши на пире отцов,
И веселья, и чести своей.
Мне на плечи кидается век-волкодав,
Но не волк я по крови своей:
Запихай меня лучше, как шапку, в рукав
Жаркой шубы сибирских степей…
Чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы,
Ни кровавых костей в колесе;
Чтоб сияли всю ночь голубые песцы
Мне в своей первобытной красе.
Уведи меня в ночь, где течет Енисей
И сосна до звезды достает,
Потому что не волк я по крови своей
И меня только равный убьет.
* * *
Жил Александр Герцевич,
Еврейский музыкант, —
Он Шуберта наверчивал,
Как чистый бриллиант.
И всласть, с утра до вечера,
Заученную вхруст,
Одну сонату вечную
Играл он наизусть…
Что, Александр Герцевич,
На улице темно?
Брось, Александр Сердцевич, —
Чего там? Все равно!
Пускай там итальяночка,
Покуда снег хрустит,
На узеньких на саночках
За Шубертом летит:
Нам с музыкой-голу́бою
Не страшно умереть,
Там хоть вороньей шубою
На вешалке висеть…
Все, Александр Герцевич,
Заверчено давно.
Брось, Александр Скерцевич.
Чего там! Все равно!
* * *
Нет, не спрятаться мне от великой муры
За извозчичью спину – Москву,
Я трамвайная вишенка страшной поры
И не знаю, зачем я живу.
Мы с тобою поедем на «А» и на «Б»
Посмотреть, кто скорее умрет,
А она то сжимается, как воробей,
То растет, как воздушный пирог.
И едва успевает грозить из угла —
Ты как хочешь, а я не рискну!
У кого под перчаткой не хватит тепла,
Чтоб объездить всю курву Москву.
Неправда
Я с дымящей лучиной вхожу
К шестипалой неправде в избу:
– Дай-ка я на тебя погляжу,
Ведь лежать мне в сосновом гробу.
А она мне соленых грибков
Вынимает в горшке из-под нар,
А она из ребячьих пупков
Подает мне горячий отвар.
– Захочу, – говорит, – дам еще… —
Ну, а я не дышу, сам не рад.
Шасть к порогу – куда там – в плечо
Уцепилась и тащит назад.
Вошь да глушь у нее, тишь да мша, —
Полуспаленка, полутюрьма…
– Ничего, хороша, хороша…
Я и сам ведь такой же, кума.
* * *
Я пью за военные астры, за все, чем корили меня,
За барскую шубу, за астму, за желчь
петербургского дня.
За музыку сосен савойских, Полей Елисейских
бензин,
За розу в кабине рольс-ройса и масло парижских
картин.
Я пью за бискайские волны, за сливок
альпийских кувшин,
За рыжую спесь англичанок и дальних колоний
хинин.
Я пью, но еще не придумал – из двух выбираю
одно:
Веселое асти-спуманте иль папского замка вино.
Рояль
Как парламент, жующий фронду,
Вяло дышит огромный зал —
Не идет Гора на Жиронду,
И не крепнет сословий вал.
Оскорбленный и оскорбитель,
Не звучит рояль-Голиаф —
Звуколюбец, душемутитель,
Мирабо фортепьянных прав.
Разве руки мои – кувалды?
Десять пальцев – мой табунок!
И вскочил, отряхая фалды,
Мастер Генрих – конек-горбунок.
…………………………..
Чтобы в мире стало просторней,
Ради сложности мировой,
Не втирайте в клавиши корень
Сладковатой груши земной.
Чтоб смолою соната джина
Проступила из позвонков,
Нюренбергская есть пружина,
Выпрямляющая мертвецов.
* * *
– Нет, не мигрень, – но подай карандашик
ментоловый, —
Ни поволоки искусства, ни красок пространства
веселого!
Жизнь начиналась в корыте картавою мокрою
шопотью,
И продолжалась она керосиновой мягкою копотью.
Где-то на даче потом в лесном переплете
шагреневом
Вдруг разгорелась она почему-то огромным
пожаром сиреневым…
– Нет, не мигрень, но подай карандашик
ментоловый, —
Ни поволоки искусства, ни красок пространства
веселого!
Дальше сквозь стекла цветные, сощурясь,
мучительно вижу я:
Небо, как палица, грозное, земля, словно
плешина, рыжая…
Дальше – еще не припомню – и дальше
как будто оборвано:
Пахнет немного смолою да, кажется, тухлою
ворванью…
– Нет, не мигрень, но холод пространства
бесполого,
Свист разрываемой марли да рокот гитары
карболовой!
* * *
Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья
и дыма,
За смолу кругового терпенья, за совестный
деготь труда.
Как вода в новгородских колодцах должна быть
черна и сладима,
Чтобы в ней к Рождеству отразилась семью
плавниками звезда.
И за это, отец мой, мой друг и помощник мой
грубый,
Я – непризнанный брат, отщепенец в народной
семье, —
Обещаю построить такие дремучие срубы,
Чтобы в них татарва опускала князей на бадье.
Лишь бы только любили меня эти мерзлые
плахи —
Как прицелясь на смерть городки зашибают
в саду, —
Я за это всю жизнь прохожу хоть в железной
рубахе
И для казни петровской в лесу топорище найду.
* * *
Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето.
С дроботом мелким расходятся улицы в чоботах
узких железных.
В черной оспе блаженствуют кольца бульваров…
Нет на Москву и ночью угомону,
Когда покой бежит из-под копыт…
Ты скажешь – где-то там на полигоне
Два клоуна засели – Бим и Бом,
И в ход пошли гребенки, молоточки,
То слышится гармоника губная,
То детское молочное пьянино:
– До-ре-ми-фа
И соль-фа-ми-ре-до.
Бывало, я, как помоложе, выйду
В проклеенном резиновом пальто
В широкую разлапицу бульваров,
Где спичечные ножки цыганочки в подоле
бьются длинном,
Где арестованный медведь гуляет —
Самой природы вечный меньшевик.
И пахло до отказу лавровишней…
Куда же ты? Ни лавров нет, ни вишен…
Я подтяну бутылочную гирьку
Кухонных крупно скачущих часов.
Уж до чего шероховато время,
А все-таки люблю за хвост его ловить,
Ведь в беге собственном оно не виновато
Да, кажется, чуть-чуть жуликовато…
Чур, не просить, не жаловаться! Цыц!
Не хныкать – для того ли разночинцы
Рассохлые топтали сапоги, чтоб я теперь
их предал?
Мы умрем как пехотинцы,
Но не прославим ни хищи, ни поденщины,
ни лжи.
Есть у нас паутинка шотландского старого пледа.
Ты меня им укроешь, как флагом военным,
когда я умру.
Выпьем, дружок, за наше ячменное горе,
Выпьем до дна…
Из густо отработавших кино,
Убитые, как после хлороформа,
Выходят толпы – до чего они венозны,
И до чего им нужен кислород…
Пора вам знать, я тоже современник,
Я человек эпохи Москвошвея, —
Смотрите, как на мне топорщится пиджак,
Как я ступать и говорить умею!
Попробуйте меня от века оторвать, —
Ручаюсь вам – себе свернете шею!
Я говорю с эпохою, но разве
Душа у ней пеньковая и разве
Она у нас постыдно прижилась,
Как сморщенный зверек в тибетском храме:
Почешется и в цинковую ванну.
– Изобрази еще нам, Марь Иванна.
Пусть это оскорбительно – поймите:
Есть блуд труда, и он у нас в крови.
Уже светает. Шумят сады зеленым телеграфом,
К Рембрандту входит в гости Рафаэль.
Он с Моцартом в Москве души не чает —
За карий глаз, за воробьиный хмель.
И словно пневматическую почту
Иль студенец медузы черноморской
Передают с квартиры на квартиру
Конвейером воздушным сквозняки,
Как майские студенты-шелапуты.
* * *