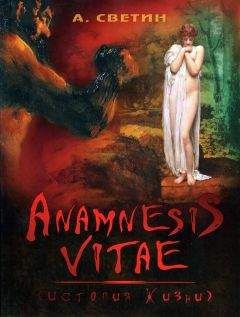Ольга Кучкина - Численник
10 мая 2010
«Богу Богово. А что у Бога…»
Богу Богово. А что у Бога
в сухом остатке?
А у Него дорога,
безлюдная, длинная,
суглинная.
20 мая 2010
Звездная пыль
Поэтам – не их всё,
прозаикам – журналист,
драматургам – ни то, ни се,
всем – оторвавшийся лист.
А что повсюду зовут —
ведь не всерьез дела,
статус, он как статут:
красавицею была.
Мужняя жена,
не девочка, бабка и мать,
а помнят: бродила одна,
и хотелось ее подобрать.
На празднике жизни чужом
оттанцевав свое,
жим одолев и жом,
в поле летит, где жнивье,
где крупно – сверканье звезд,
мелко – звездная пыль,
и, драгоценный до слез,
по ночам шелестит ковыль.
6 июня 2010
«Судьбою прибиты друг к другу…»
Судьбою прибиты друг к другу,
как лодка и берег, допустим,
дитя не нашли мы в капусте,
но бегает Чарли по кругу.
Весь мир и себя в этом мире
друг другу легко подарили,
и фото, пусть три на четыре,
у сердца в житейской кадрили.
Пространство от сосен до пиний,
освоено нашей любовью,
коричневый, желтый и синий
льнут ночью в зрачки к изголовью,
и рыжий монах обольщает,
с безумным священником вкупе,
игуменья Ксенья венчает —
мы в Божьей прикаянной труппе.
Мой мальчик, серебряный мальчик,
люблю твой сентябрь золотистый,
и то, что случайно назначен,
и то, что мы оба артисты.
28 сентября 2010
План
Привыкнуть пить стаканами воду,
гонять ровно кровь уговорить сосуды,
не пугаться ни прострела и ни простуды,
обучиться отнестись к смерти как эпизоду.
29 сентября 2010
«На асфальте мокрые огни…»
На асфальте мокрые огни,
вечер понедельника хлопочет,
кто-то обмануть кого-то хочет,
кто-то шепчет жалко: обмани.
Правда – как убийца за углом,
не ходи на встречу с ней на угол,
не веди напрасным чутким ухом,
знай, что может обернуться злом.
Путаница, слабость – ну и пусть,
сила с прямизною отвращает,
помни: нам никто не обещает
дважды повторить наш крестный путь.
Дождь двоит изображенья лиц,
всех вещей природу умножая,
плачется природа как живая,
платится по ставкам без границ.
8 ноября 2010
«Я не помню, жаворонок была или сова…»
Я не помню, жаворонок была или сова,
и что отвечала на вопрос bien ça va,
потому что была одержима письмом
и позабыла, как было до, а как потом.
Я забыла, кому отворяла дверь,
а теперь попробуй пойди проверь,
когда все ушли, кто стучался в дом,
и никто не подскажет, что было до и потом.
Записала ли я выраженья лиц,
и вышли ли обличья из приличья границ,
и зачем стоит этот в глотке ком,
если память ушла, как было до и потом.
И просвечивает сквозь кисею прошедших лет
начертанный слабыми письменами след,
тот почерк, что до крови знаком,
выводит, выводит, как было до и потом,
как кто-то присваивал себе меня,
а кто-то отпускал на волю, кляня.
И горою высится мой смертный грех,
что любила,
но плохо любила всех.
27 ноября 2010
«Убывают сентябри…»
Валеше
Убывают сентябри,
остается непогода,
но в любое время года
наш секрет у нас внутри.
Там у нас из детства звук,
звук из юности, а также
утоленье вечной жажды,
одоление разлук.
Что с тобой, то и со мной,
мы вдвоем об этом знаем,
и хотя базлать базлаем,
осень смотрится весной.
Убывают сентябри,
солнце золотом струится,
близко-близко наши лица:
вот я, тут, смотри, смотри!..
Флоренция, 28 сентября 2011
В деревянном доме
маленький роман в стихах
Однофамильцу
1
Приехали поздно.
Калитка запела,
встречая хозяев и званых гостей.
Хозяйка о гвоздь на калитке задела,
а кровь проступила на лицах детей —
сочувствия краской, румянцем по шею,
она же, от боли губу закусив,
на коже царапину трогала, ею
царапину в сердце на миг заместив.
Еще по дороге, в машине, устала
справляться с собою, забытой давно.
А гостья на заднем сиденье блистала.
А муж подливал ей охотно вино.
И в зеркало глядя, вторую машину,
что шла вслед за ними, имея в виду,
все видела мужа широкую спину
изогнутой к гостье на полном ходу.
Спиной, как забором – мальчишки отдельно, —
мужик огораживал свой интерес.
Второй кавалер на переднем сиденье
испил свою долю и к задним не лез.
Винцо по дороге – мужская забава,
придуманный кем-то смешной ритуал,
плечом повела разомлевшая пава —
муж блудный к плечу павианом припал.
Водитель, работница, тяглая лошадь,
тянула свой воз сквозь кромешные дни.
Но вот уже, въехав на малую площадь,
в последний проселок свернули они.
Входили в калитку, к крыльцу поспешали,
тащили поклажу, вино и еду,
весельем заброшенный дом оглашали,
руками на раз разводили беду.
Да где же беда!..
Просто что-то попало
в глаза, как соринка, – и чувство, как сон,
что нечто упало и с возу пропало,
и муж не жених и уже не влюблен.
Бродили по дому, кто сам, а кто с мужем,
глазели, болтали, и слышался смех,
хозяйка на кухне готовила ужин,
картошку с селедкой почистив на всех.
Поставила чайник, доверху наполнив,
усилием горечь едва укротив,
саднила царапина, что-то напомнив,
и ожил, о Боже, забытый мотив!
Качели, высокие травы и сосны,
и порванный гвоздиком юбочки край,
и девочкин папа, разумный и взрослый,
устроивший девочке ад, а не рай.
Рай был накануне, с лихим мальчуганом,
из сада к нему через грешный забор…
Но уличной девкою и хулиганом
назвал, как прочел на суде приговор.
Ей жить не хотелось.
Ей белое черным
впервые назвали в ту светлую ночь.
И с этой поры существом непокорным
росла под личиной покорности дочь.
Любимый ребенок…
Спустя лихолетья
могу оценить, как болело внутри, —
от этого, бешеный, словом, как плетью,
хлестал.
Ну же, девочка, слезы утри.
Утри. Сэкономь. Пригодилась учеба.
Уроки любви тяжелы, как плита.
Стою у плиты. И картошка готова.
И можно позвать: эй, за стол, господа!
Нейдут.
Через стенку отличная баня,
изделие мужа, мечта-похвальба,
а там анекдоты, и чьи-то лобзанья,
и хохот, и рокот, ну, словом, гульба.
Пошла на крыльцо. На ступеньки присела.
По улице бегал какой-то пострел.
И вдруг разрыдалась: как балка просела,
как краска облезла, как дом постарел.
2
В углу, не медвежьем, не дальнем, а дачном,
вблизи от Москвы, средь дубов и берез,
был выстроен дом деревянный удачно,
вместилище пения, смеха и грез.
Красавица-мама, отчаянный папа,
в ту тетку, что первой женою была,
стрелявший из ревности…
Вот она, лапа
несчастного зверя, что так тяжела.
Он был комиссар. А она комиссарша.
Ее с ординарцем внезапно застав,
рыдал и рычал, сразу сделавшись старше,
и вынул наган, нарушая устав.
Убийство не сладилось.
Тетка живая
гостила поздней в деревянном дому.
Тогда же готовился, нервно зевая,
юнец под расстрел или просто в тюрьму.
Взыскали.
Но вскоре простили по-братски:
не вождь, не начальник, всего лишь жена.
Серьезных военных, не рохлей гражданских,
гражданская требовала война.
И дети, играя в войну, столбенели
от хитрости вражьей, измены в рядах,
предательства, мужества – разных моделей
хватало на совесть, а не на страх.
Еще и сейчас можно встать до восхода,
лесною тропинкой пройти бурелом —
увидишь окоп сорок первого года,
где прятались ночью от авиабомб.
На эту войну уходил ополченцем
отец.
Но предательский туберкулез,
как флагом, кровавым махнул полотенцем,
кровь горлом, – и маминых скопище слез.
Давно нет ни папы, ни мамы на свете,
давно на границе у Бога стою
и думаю: прошлые люди, как дети,
творили отечество, дом и семью.
И красные капли смородины красной,
с утра освежавшие детские рты,
мешаются с каплями крови напрасной,
что пролиты будут и стерты с плиты.
3
Плита раскалилась. Картошка сгорела.
Хозяйка умылась холодной водой.
Присела на кухне. Селедки поела.
И в небе увидела шар золотой.
Всходила луна, раскаленная жаром
как будто бы от раскаленной плиты.
Подумала: ну покати этим шаром,
своей пустотой до моей пустоты.
Костяшка игры в домино пусто-пусто,
стручок с огорода расчисленных дней…
Там, в сумке, остались морковь и капуста
на завтра. На щи.
Завтра будет видней.
В постели уложены сонные дети,
горит телевизора глупый квадрат —
попалась опять в те же самые сети,
и прежней грозы угрожает разряд.
Могла бы и скинуть передник домашний
и в собственном доме ступить за порог,
чтоб в общее празднество встрять без промашки,
да кто-то в ней этого сделать не мог.
Забыли.
Как Фирса.
Иль Жукова Ваню.
И муж приходил, а к гостям не позвал.
Несчастный инстинкт, что замучил папаню,
мучительно в ней нарастал, как обвал.
Наверх поднялась в деревянную спальню
и методом тыка, ошибок и проб
футболила образ, тоски наковальню,
что это не дачная спальня, а гроб.
Пыталась читать – книжка ехала боком,
визжал надоедливый злобный комар,
боялась светильник разбить ненароком,
затем, чтоб затеять случайный пожар.
О, как бы тогда это место пылало!
О, как бы пылала уместная месть!
Кому?!
Неуместное чувство пропало.
Булавок в мозгу уместилось, не счесть.
Подумаешь, мысль…
А как силища пляшет,
как ломит и бьет на зигзаге крутом,
и топает, словно вояка на марше,
и как развернулась на месте пустом!
Пустом?
Э, неправда!
Не зряшным капризом,
не вымыслом вздорным отравленный миг,
чужой человек, выходило, ей близок,
и рвался из горла задушенный крик.
Старалась любить за двоих. И любила,
подруга, любовница, мать и жена…
В висок канонада упрямо забила:
то были одно – а осталась одна.
И вдруг застонала, заныла, забилась,
стремясь укротить возбужденную плоть,
и истово, тихо и нежно молилась,
простил чтобы великодушно Господь.
4