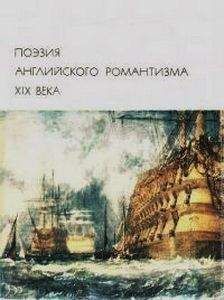Александр Блок - Поэмы
Глава I. Петербург конца 70-х годов. Турецкая война и 1 марта.
Это – фон. Семья и появление в ней «демона». Скучая, увозит молодую жену в Варшаву. Через год она возвращается: «бледна, измучена, ребенок золотокудрый на руках».
Глава П. Петербург 90-х годов. Царь. Тройки, вдова Клико. Воспитание сына у матери. Юность, видения, весенний пыл, роман (еще удачливый). Первая мазурка. Приближение революции, весть о приближающейся кончине отца.
Глава III. Приезд в Варшаву. Смерть отца. Тоска, мороз, ночь. Вторая мазурка. «Ее» появление. Зачат сын.
Глава IV. Возвращение в Петербург. Красные зори, черные ночи. Гибель его (уже неудачливый). Баррикада.
Эпилог. Третья мазурка. Где-то в бедной комнате, в каком-то городе растет мальчик.
Два лейтмотива: один – жизнь идет, как пехота, безнадежно. Другой – мазурка.
* * *21. I X.1913
Дед светел. В семью является демон, чтобы родить сына (первый «отбор»).
Детство и юность сына. Розовый туман, пар над лугами. Любовь. Опять война – и за нею революция. Встреча – как рыцарь, закованный в броню, – лица не видно. Безумие холодной страсти, так и нет лица. Утром – записка: «Смертельно болен ваш отец».
Вся тоска – только для встречи с «простой». Все лицо, пленительное все. Зачатие сына (последний отбор, что сулит?).
* * *Октябрь 1913
В 70-х годах жизнь идет «ровно» (сравнительно. Лейтмотив – пехота). Это оттого, что деды верят в дело. Есть незыблемое основание, почва под ногами. Уже кругом – 1 марта. И вот – предвестием входит в семью – «демон».
* * *Октябрь 1911
…Но уже на все это глядят чьи-то холодные глаза. В дружной семье появляется «странный незнакомец»…
…И ребенка окружили всеми заботами, всем теплом, которое еще осталось в семье, где дети выросли и смотрят прочь, а старики уже болеют, становятся равнодушнее, друзей не так много, и друзья уже не те – свободолюбивые, пламенные. Теперь – апухтинская нотка.
Уж Александр Второй в могиле,
На троне – новый Александр.
Семья, идущая как бы на убыль, старикам суждено окончить дни в глуши победоносцевского периода. Теперь уже то, что растет, – растет не по-ихнему, они этого не видят, им виден только мрак. Тут и начинается: золотое детство, елка, дворянское баловство, няня, Пушкин (опять и опять!), потом – гимназия – сначала утра при лампе, потом великопостные сумерки с трескающимся льдом и ветром. Петербург рождается новый, напророченный «обскурантом» Достоевским.
Пускай, наконец, «герой» воплотится. Пусть его зовут Дмитрием (как хотели назвать меня).
План первой части(1878–1881)Чему радуется Петербург? Солнечный сентябрь 1878. Войска наши возвращаются от стен Цареграда. Их держали в карантине, довезли до Александровской станции и теперь по одному полку в день вводят в город по шоссе от Пулкова. Трибуны у Московской заставы, там императрица и двор. Народ по всему пути. Из окон летят цветы и папиросы на «серые груди». Идут усталые и разреженные полки. У командиров полков, батальонов – всюду цветы, на седле, на лошадиной челке. У каждого солдата – букет цветов на штыке. Тяжелая, усталая пехота идет через весь город – по Забалканскому, Гороховой, Морской… Адреса, речи. Гренадеры, бывшие у Московской заставы утром, дошли до казарм только в 6-м часу.
За ними Плевна, Шипка, Горный Дубняк. Шапки и темляки будут украшены. Но за ними еще – голод, лохмотья, спотыканье по снегу на Балканах, кровь, холод, смерть, хуже смерти – воровство интендантов.
В этой поэме я хочу указать на пропасть между общественным и личным, пропасть, которая становится все глубже[61].
10 октября ‹1911› на рассвете
Начало – на рубеже 70-80-х годов. Прекрасная семья. Гостеприимство – стародворянское, думы – светлые, чувства – простые и строгие.
Реформы отшумели. Еще жива память об измене Каткова. Рядом «злится» Щедрин. Достоевский – обскурант.
Все заволакивается. 1-е марта. Победоносцев бесшумно садится на трон, как сова. Около этого времени в семье появляется черная птица: молодой мрачный (байронист) – предвестие индивидуализма, неудачник, Александр Львович Блок. Приготовляется индивидуализм, это значит старинное «общественное» (миродержание) отпускается с миром, просыпается и готов зашуметь народ.
Вся суть в том, что прелесть той семьи так заметна, потому что все тогдашние прекрасные передовые русские люди носили в себе мир – при всеобщем сне. То были герои еще (дракон, спящая царевна). То, что кажется «наивным» теперь, тогда не было наивно, но было сораспятием. Профессор лучших времен Петербургского университета[62] был тем самым общественным деятелем, он берег Россию. То, что Щедрин говорит о современных ему урядниках и полицейских («Современная идиллия») – верно, не шарж. Тогда и казалось, что есть и было на самом деле только две силы: сила тупой и темной «византийской» реакции – и сила светлая – русский либерализм. Единицы держат Россию, составляя «общественное мнение».
Ну, а «Народная Воля»?
Итак, – священен кабинет деда, где вечером и ночью совещаются общественные деятели, конспирируют, разрешают самые общие политические вопросы (а в университете их тем временем разрешают, как всегда, студенты), – а утром маленький внук, будущий индивидуалист, пачкает и рвет «Жизнь животных» Брэма, и няня читает с ним долго-долго, внимательно, изо дня в день:
Гроб качается хрустальный[63]…
Спит царевна мертвым сном.
Внук читает с няней в дедушкином кабинете (Кот Мурлыка[64], Андерсен, Топелиус[65]), а на другом конце квартиры веселится молодежь: молодая мать, тройки, разношерстые молодые люди – и кудластые студенты, и молодые военные (милютинская закваска), апухтинское: вечера и ночи, ребенок не замешан, спит в кроватке, чисто и тепло, а на улице – уютный толстый снег, шампанское для молодости еще беспечной, не «раздвоенной», ничем не отравленной, по-старинному веселой. Еще все дешево – и ямщицкий начай, и кабинет, и вдова Клико (кажется, в то время).
* * *Весна 1911
Семья начинает тяготить. И вот – его уже томит новое. Когда говеет гимназистом – синяя весна, сумерки, ладан, и лед звездится на лужах. Скоро мы встречаем его уже в обществе другом. Еврейка. Неутомимость и тяжелый плен страстей.
Вино.
На фоне каждой семьи встают ее мятежные отрасли – укором, тревогой, мятежом. Может быть, они хуже остальных, может быть, они сами осуждены на погибель, они беспокоят и губят своих, но они – правы новизною. Они способствуют выработке человека. Они обыкновенно сами бесплодны. Они – последние. В них все замыкается. Им нет выхода из собственного мятежа – ни в любви, ни в детях, ни в образовании новых семей.
Хотя они разрывают с семьей, но разрывают тем и ее. Они любимцы, баловни, если не судьбы, то семьи. Они всегда «демоничны». Они жестоки и вызывающи. Они бросают перчатку судьбе. Они – едкая соль земли. И они – предвестники лучшего.
* * *‹1911›
После «А мир прекрасен, как всегда».
Я стою ночью у решотки Саксонского сада и слышу завывание ветра, звон шпор и храп коня. Скоро все сливается и вырастает в определенную музыку. Над Варшавой порхают боевые звуки – легкая мазурка.
Цынцырны – цынцырны – цынцырны – цыцы.
И пахнет клевером с берегов Немана. Что за чудеса? Я замерзаю и слышу во сне райские звуки. Меня пробуждает…
План дальнейшего‹Январь 1911›
Бесконечно прав тот, кто опускает руки, кто отказывается от поверхностных радостей жизни.
Сын спускался по Краковскому предместью, в том самом месте…
9-я глава: человек, опускающий руки и опускающийся, прав. Нечего спорить против этого. Все так ужасно, что личная гибель, зарывание своей души в землю – есть право каждого. Это – возмездие той кучке олигархии, которая угнетает весь мир. Также и «страна под бременем обид».
3. ‹Наброски продолжения второй главы›
24 января 1921
К чему мечтою беспокойной
Опережать событий строй?
Зачем в порядок мира стройный
Вводить свой голос бредовой?
В твои… сцепленные зубы,
Пегас, протисну удила,
И если ты, заслышав трубы,
На звук помчишься, как стрела,
Тебе исполосую спину
Моим узорчатым хлыстом,
Тебя я навзничь опрокину,
Рот окровавив мундштуком,
И встанешь ты, дрожа всем телом,
Дымясь, кося свой умный глаз
На победителя…
Смирителя твоих проказ…
Пойдешь туда, куда мне надо,
Грызя и пеня удила,
Пока вечерняя прохлада
Меня на отдых отвела…
Смирись, и воле человека
Покорствуй, буйная мечта…
Сопели туман и темнота.
Настал блаженный вечер века.
Кончался век, не разрешив
Своих мучительных загадок,
Грозу и бурю затаив
Среди широких… складок
Туманного плаща времен.
Зарыты в землю бунтари,
Их голос заглушен на время.
Вооруженный мир, как бремя,
Несут безропотно цари.
И Крупп[66], несущий мир всем странам,
(Священный) страж святых могил,
Полнеба чадом и туманом
Над всей Европой закоптил.
И в русской хате деревенской
Сверчок, как прежде, затрещал.
В то время земли пустовали
Дворянские – и маклаки
Их за бесценок продавали,
Но начисто свели лески.
И старики, не прозревая
Грядущих бедствий…
За грош купили угол рая
Неподалеку от Москвы.
Огромный тополь серебристый
Склонял над домом свой шатер,
Стеной шиповника душистой
Встречал въезжающего двор.
Он был амбаром с острой крышей
От ветров северных укрыт,
И можно было ясно слышать,
Какая тишина царит.
Навстречу тройке запыленной
Старуха вышла на крыльцо,
От солнца заслонив лицо
(Раздался листьев шелест сонный),
Бастыльник[67] покачнув крылом,
Коляска подкатилась к дому.
И сразу стало все знакомо,
Как будто длилось много лет, —
И серый дом, и в мезонине
Венецианское окно,
Цвет стекол – красный, желтый, синий,
Как будто так и быть должно.
Ключом старинным дом открыли
(Ребенка внес туда старик),
И тишины не возмутили
Собачий лай и детский крик.
Они умолкли – слышно стало
Жужжанье мухи на окне,
И муха биться перестала,
И лишь по голубой стене
Бросает солнце листьев тени,
Да ветер клонит за окном
Столетние кусты сирени,
В которых тонет старый дом.
Да звук какой-то заглушенный —
Звук той же самой тишины,
Иль звон церковный, отдаленный,
Иль гул (неконченной) весны,
И потянулись вслед за звуком
(Который новый мир принес)
Отец, и мать, и дочка с внуком,
И ласковый дворовый пес.
И дверь звенящая балкона
Открылась в липы и в сирень,
И в синий купол небосклона,
И в лень окрестных деревень.
Туда, где вьется пестрым лугом
Дороги узкой колея,
Где обвелась…
Усадьба чья-то и ничья.
И по холмам, и по ложбинам,
Меж полосами светлой ржи
Бегут, сбегаются к овинам
Темно-зеленые межи,
Стада белеют, серебрятся
Далекой речки рукава,
Телеги… катятся
В пыли, и видная едва
Белеет церковь над рекою,
За ней опять – леса, поля…
И всей весенней красотою
Сияет русская земля…
Здесь кудри внука золотые
Ласкало солнце, здесь…
Он был заботой женщин нежной
От грубой жизни огражден,
Летели годы безмятежно,
Как голубой весенний сон.
И жизни (редкие) уродства
(Которых нельзя было не заметить)
Возбуждали удивление и не нарушали благородства
И строй возвышенной души.
Уж осень, хлеб обмолотили,
И, к стенке прислонив цепы,
Рязанцы к веялке сложили
(Уже последние снопы).
Потом зерно в мешки ссыпают,
Белеющие от муки,
В телегу валят, и сажают
Наверх ребенка на мешки.
Мешков с десяток по три меры
Везет с гумна в амбар шажком
Почти тридцатилетний серый,
За ним – рязанцы вшестером,
Приказчик, бабушка с плетеной
Своей корзинкой для грибов —
Следят, чтоб внук неугомонный
Не соскользнул… с мешков.
А внук сидит, гордясь немного,
Что можно править самому,
И по гумну на двор дорога
Предлинной кажется ему.
В деревне жили только летом,
А с наступленьем холодов…
(Пред ним встают) идей Платона
Великолепные миры.
И гимназистам, не забывшим
Про единицы и нули,
Профессор врет: «Вы – соль земли!»
Семь лет гимназии толстовской[68],
Латынь и греки…
Растет, растет его волненье,
…отчего
Уже туманное виденье
В ночи́ преследует его,
Он виснет над туманной бездной,
И в пропасть падает во сне.
Ему призывы тверди звездной
В ночной понятны тишине,
Его манят заката розы,
Его восторгу нет конца,
Когда… грозы…
И под палящим солнцем дня
…на коня,
Высокий белый конь, почуя
Прикосновение хлыста,
Уже волнуясь и танцуя,
Его выносит в ворота.
Стремян поскрипывают…
Позвякивают удила,
Встречает жадными глазами
Мир, зримый с высоты седла.
Пропадая на целые дни – до заката, он очерчивает все бóльшие и бóльшие круги вокруг родной усадьбы. Все новые долины, болота и рощи, за болотами опять холмы, и со всех холмов, то в большем, то в меньшем удалении – высокая ель на гумне и шатер серебристого тополя над домом.