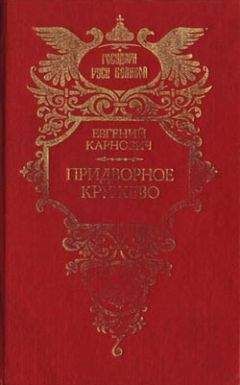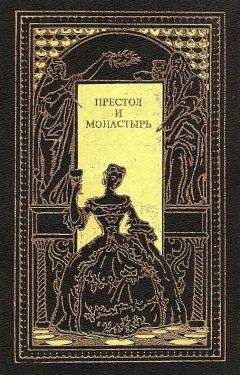Теодор Крамер - Зеленый дом
Шлюха из предместья
Дождик осенний начнет моросить еле-еле;
выйду на улицу, и отыщу на панели
гостя, уставшего после тяжелого дня,
чтобы поплоше других, победнее меня.
Тихо взберемся в мансарду, под самую кровлю
(за ночь вперед заплачу и ключи приготовлю),
тихо открою скрипучую дверь наверху,
пива поставлю, нарезанный хлеб, требуху.
Крошки смахну со стола, уложу бедолагу,
выключу тусклую лампу, разденусь и лягу.
Буду ласкать его, семя покорно приму, —
пусть он заплачет и пусть полегчает ему.
К сердцу прижму его, словно бы горя и нету,
тихо заснет он, — а утром уйду я до свету,
деньги в конверте оставлю ему на виду…
Похолодало, — наверное, завтра пойду.
Старые рабочие
Старым рабочим в мороз не нужны свитера,
ждут возле фабрик они с полшестого утра,
смотрят, кто прежде гудка проскользнет в проходную,
и не торопятся делать работу дневную.
Старых рабочих в цехах окружает уют,
спешки не любят, казенных вещей не берут,
дружно ругают в столовой фабричной кормежку,
носят с собою из дома горшочек и ложку.
Старым рабочим не в жилу сидеть в кабаке,
лягут на травку, а то соберутся к реке,
смотрят на злаки, на борозды, взрытые плугом,
речи со звездами долго ведут и друг с другом.
Старых рабочих судьба не сгибает в дугу,
но не пытайся найти их на каждом шагу:
меньше на свете была бы, пожалуй, тревога,
если бы их оставалось еще хоть немного.
Из сборника
«ХВАЛА ОТЧАЯНЬЮ»
(1946–1972)
Там, за старым рынком, есть квартал,
Там, за старым рынком, есть квартал,
что давно меняться перестал:
без толку то лето, то зима
гложут толстостенные дома.
Там одна к одной, как на подбор,
прилепилось множество контор;
звон к вечерне грянет с высоты —
скоро станут улицы пусты.
Лишь старик-привратник со двора
уходить не должен до утра
да трактирщик ночи напролет
свой заветный погреб стережет.
И, рукой хозяйкиной блюдом,
пробуждается веселый дом,
чтобы гость захожий мог всегда
наверстать пропавшие года.
Заезжий двор, клетушки
Заезжий двор, клетушки,
заглохший палисад;
чуть утро — запах стружки
всплывает невпопад.
Стучат тарелки где-то.
До жалости мала,
скользит заплатка света
вдоль шаткого стола.
Уже слегка привянув
и подвернув края,
висят листы каштанов;
замшавела скамья;
под буком темнокорым,
прозрачна и светла,
смесь пыли с мелким сором
слетает со стола.
Объемлясь дремой тяжкой,
скучает палисад,
спят и сверчок, и чашка,
и дикий виноград;
затишье, полдень, лето,
от зноя тяжела,
скользит заплатка света
вдоль шаткого стола.
Затянувшийся развод
Я все еще вижу твою доброту,
как что напишу, так тебе и прочту —
но ты промолчишь, вот какая беда:
любовь хоть была, да сплыла, — а куда?
Почти неизменным осталось житье, —
ты штопаешь мне вечерами белье,
чтоб мне в бардаке не сгорать со стыда:
любовь хоть была, да сплыла, — а куда?
Хоть нет ничего между нами сейчас,
опять-таки ты залетела на раз;
но ты не волнуйся, аборт — ерунда;
любовь хоть была, да сплыла, — а куда?
И даже бывает, всему вопреки:
со мной засмеешься, коснешься руки —
однако и это пройдет без следа;
любовь хоть была, да сплыла, — а куда?
Старая вдова
И вот уж год, как умер мой старик:
он под конец совсем вставать отвык;
всё не хотел простыть на холоду
и строго запретил солить еду.
Он по нужде ночами не шумит,
салфетки дольше сохраняют вид,
а то ведь прежде не было житья
от курева его и от бритья.
Теперь на всё хватает денег мне,
почти не нужно думать о стряпне,
сготовлю наскоро, чего могу,
и не вожусь с проклятыми рагу.
Куда хочу, задвинула сундук,
не досаждает мне никто вокруг,
открыты настежь и окно, и дверь,
и спать могу хоть целый день теперь.
Лишь вечером ломается уют:
часы уж как-то слишком громко бьют,
не держат ноги, — слабость такова,
что кружится всё время голова.
Всего одно кольцо на поставце,
и я стою в капоте и в чепце,
и злости больше не на ком сорвать:
пуста моя широкая кровать.
Воскресный день коммивояжера
Как нудно в гостинице время течет,
когда ты закончишь дела;
в постели скропаешь письмо и отчет,
конфорку зажжешь для тепла.
Альбом образцов, что не нужен уже,
без проку лежит в остальном багаже,
будильник глядит со стола.
Расческу прочистишь, закажешь обед —
бифштекс на подошву похож;
от скверной еды, от дурных сигарет
вернуться домой невтерпеж.
Неделя прошла, но бессмыслен досуг,
хоть в парке немало возможных подруг
и вечер куда как хорош.
Пустые скамьи зазывают во тьму,
доносится смех из аллей, —
но вечером — в поезд, ничто ни к чему,
возьми да с тоски околей.
Заулки пропитаны гарью спиртной,
куда же ты денешь свой день выходной
при тусклых лучах фонарей?
Привокзальное кафе
Ежели ты капиталец собьешь небольшой,
знаешь, поженимся, — и с дорогою душой
вместе оформим расчет, месяцок отдохнем,
снимем кафе у вокзала, устроимся в нем.
Будет открыта всё время наружная дверь,
вряд ли кто дважды зайдет между тем, уж поверь.
Я — за хозяина, ты — при буфете, Мари;
кофе, гляди, экономь да послабже вари.
Сервировать побыстрей — это важный момент;
в спешке любые помои сглотает клиент,
если сидит на иголках, торопится он
и по свистку на перрон выметается вон.
Фарш — третьеднёвочный, с булок — вернейший доход,
черствых тринадцать на дюжину пекарь дает;
елкое масло — дохода другая статья;
твердую прибыль тебе гарантирую я.
В зеркало гляну — седеть начинают виски;
груди дряблеют твои, — но пожить по-людски
хоть напоследок мне хочется, так что смотри,
ты уж копи поприлежней, старайся, Мари.
Молитва рыночного грузчика
Мария, если разобьет
меня однажды паралич,
пускай не говорит народ,
что, мол, отбегал старый хрыч.
И чтоб со мной еще пока
здоровался напарник мой,
и чтоб жена из кабака
не волокла меня домой.
Чтоб я в харчевне, не стыдясь,
сидел и нюхал заодно,
как жарится на кухне язь,
чтоб мне фартило в домино;
чтоб мог я сделать щедрый жест,
и бросить грош-другой шпане, —
а если каша надоест,
чтоб на гуляш хватало мне.
Но если буду я одет
в женой нештопанный пиджак
и целый час плестись в клозет
придется с палкой кое-как,
то это ли цена за пот,
что хуже, чем такой недуг?
Уж если хворь меня найдет,
пусть разом скрутит — и каюк.
В Больничном саду
Куст у чугунных больничных ворот
позднего полон огня.
Я безнадежен, но доктор солжет,
чтоб успокоить меня.
Впрочем, врачи сотворили добро,
не колебались, увы,
опухоль снова впихнули в нутро,
ровно заштопали швы.
Цвел бы да цвел бы подсолнух и мак,
длилась бы теплая тишь.
Как прилетел ты, воробышек, так,
милый, назад улетишь.
Сроки исполнятся — канешь во тьму.
Грустно тебе, тяжело.
Глуп человек: неизвестно к чему
рвется, а время — ушло.
Счастье, которое в мире цветет,
видит ли тот, кто здоров?
Очень коричнев гераневый плод,
тиссовый — очень багров.
Вижу, как кружатся краски земли
в солнце, в дожде, на ветру,
вижу курящийся город вдали:
в этом году я умру.
Ночное кафе