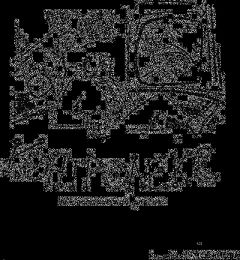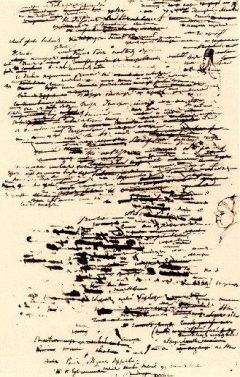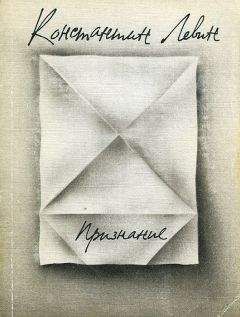Нелли Закс - Звездное затмение
Если бы Осип Мандельштам не написал ничего, кроме «Камня», он остался бы в истории русской поэзии как незаурядный поэт. Ранние произведения Нелли Закс подарили ей сочувственное внимание Сельмы Лагерлёф. Но без «воронежских тетрадей», без «Стихов о неизвестном солдате» Мандельштам не был бы Мандельштамом, как Нелли Закс не была бы Нелли Закс без своих поздних стихотворений. Романтический миф прошлого века усматривал славу поэта в его разрыве с толпой. В двадцатом веке слава поэта — катастрофа с гурьбой и гуртом. Интересно, что массовое мученичество отнюдь не приноравливает поэзию к массовым вкусам. Вопреки распространенной литературоведческой схеме Осип Мандельштам и Нелли Закс шли вовсе не от сложности к простоте, а в противоположном направлении. Вместе с Анной Ахматовой они доказали: бесхитростное отчаянье в поэзии уводит в неизведанное, так как привыкнуть к нему нельзя, а простота, в конце концов, — та или иная степень привычного.
Любимый герой Фейхтвангера Жак Тюверлен посылает самому себе открытку, где говорится: «Не забывайте: вы здесь только для того, чтобы выражать себя». Подобный взгляд был широко распространен в первой половине двадцатого века. Философ Мартин Хайдеггер подверг этот взгляд иронической критике: «Когда Шпенглер утверждает, что в поэзии выражается душа той или иной культуры, то это относится также к изготовлению велосипедов и автомобилей. Это относится ко всему, то есть ни к чему» (Martin Heidegger. Holderlins Hymnen «Germanien» und «Der Rhein». Frankfurt am Main, 1980, p. 27). При этом, когда Хайдеггер провозглашает поэта учредителем или основоположником бытия, он сам уходит от животрепещущего в метафизическую идиллию. Жан-Поль Сартр полагал, будто в девятнадцатом веке поэзия перешла от белой магии к черной. Он чутко улавливал симптомы совершившегося, хотя не совсем верно его истолковывал. До девятнадцатого века поэзия была преимущественно жизнеутверждением. Жизнь продолжалась в стихотворении Гёте. Отсюда фаустовское: «Мгновенье, продлись, ты так прекрасно!». Так или иначе поэзия возникла благодаря действительности. Несколько десятилетий спустя поэзия начала противостоять действительности, осуществляясь вопреки ей.
Первым знаменьем такого противостояния оказались бодлеровские «Цветы зла», недаром осужденные респектабельным французским судом. Проклятые поэты не скрывали страшных предчувствий и потому были отвергнуты обществом, свято верившим в прогресс. В двадцатом веке прогресс обернулся мировыми войнами и массовым истреблением людей. Преступно говорить «продлись» мгновенью, в которое убивают невинных и беззащитных. За фаустовским обольщением обнаружилась человеконенавистническая ловушка дьявола.
Вчитавшись в стихи и драмы Нелли Закс, написанные после 1940 г., самовыражением их не сочтешь. Читателя не покидает чувство, что все это продиктовано извне, как бы навязано поэтессе вместе с ее поздней славой, даже вместе с Нобелевской премией. По всей вероятности, присуждение Нобелевской премии было для Нелли Закс не столько торжеством, сколько подтверждением ее трагического опыта и незаживающих душевных ран. Позволительно предположить: Нелли Закс предпочла бы, чтобы поздние ее книги, принесшие ей мировую известность, не были написаны, предпочла бы остаться при наивной гармонии ранних произведений в кругу своих близких, чью гибель засвидетельствовали поздние книги. В то же время, насколько нам известно, Нелли Закс решительно отказывалась от переиздания своих ранних произведений. По-видимому, она перестала ощущать их как свои. В поздней поэзии Нелли Закс обреченность совпадает с подлинностью. Едва ли зная Блока, завершившего в 1914 г. накануне первой мировой войны свой «Голос из хора», Нелли Закс пишет «Хор спасенных», «Хор нерожденных», «Хор теней». Ее хоры прямо подтверждают блоковское пророчество: «О если б знали, дети, вы холод и мрак грядущих дней!» Хор напоминает древнегреческую трагедию, в которой хором засвидетельствовано отношение человека и судьбы. В древнегреческой трагедии такое отношение приводило в конце концов к благодарному приятию судьбы, что вызывало жизнеутверждающий катарсис. Для Нелли Закс подобное приятие невозможно и преступно, так как самая формула его, по Ницше, amor fati, принята на вооружение и фальсифицирована гонителями. В хорах Нелли Закс катарсис достигается лишь сплочением жертв, так что одинокий голос поэта перестает быть индивидуальным голосом, превращаясь в голос каждой жертвы.
Таким образом, от судьбы нельзя уйти и нельзя принять ее. Вот формула трагического у Нелли Закс. Решающим аспектом этого трагизма становится ее еврейство, застигающее поэтессу врасплох, тоже как бы навязанное извне и одновременно неотъемлемое. В отличие, скажем, от Исаака Башевис-Зингера, выросшего в атмосфере еврейской книжности, поверий и сказаний, Нелли Закс, в сущности, не знала другой культуры, кроме немецкой. Разумеется, Нелли Закс не отвергла немецкую культуру и не отреклась от нее. И последние стихи поэтессы перекликаются скорее с Гёльдерлином и Новалисом, чем с Бяликом. Еврейская традиция буквально обрушилась на нее вместе с новым сверхличным призванием, неизведенным и неожиданным для нее. Призвание было продолжением наследия, грозящего гибелью. И в ответ на беспомощный вопрос «почему?» произошел синтез: и в немецком, и в еврейском выявилось исконно библейское.
«Если бы пророки вломились в двери ночи», — такова центральная проблематичная ситуация в поэзии Нелли Закс. Эту поэзию можно охарактеризовать как вторжение пророков. Трагический герой Нелли Закс — одновременно жертва и пророк, но пророк у нее не есть исключительная личность. Каждый беженец — пророк, а человек на земле и, более того, в космосе — беженец. Так трансформируется в поэзии Нелли Закс изгнание из рая. Рай — это родина, а родина — это рай. На изгнание обречены не только отдельные люди, но и целые страны:
Готовы все страны
встать с карты мира,
сбросить свою звездную кожу,
синюю вязанку своих морей
взвалить на спину,
горы с огненными корнями
шапками надеть на дымящиеся волосы.
Готовы последнее бремя тоски
нести в чемодане, эту куколку мотылька,
на крыльях которого однажды
кончат они свое путешествие.
Этот пафос всемирного беженства придает поэзии Нелли Закс жуткую актуальность в наше время. Беженство беспредельно и заразительно, потому что предостережение беженца никогда не бывает услышано. Пророки вламываются, чтобы искать внимающее ухо, как ищут родину, но ухо людское предусмотрительно и злонамеренно заросло крапивой. Зловещую двусмысленность в этой связи приобретает фигура коренного жителя:
Сколько коренных жителей
играет в карты на воздухе,
когда беглец проходит сквозь тайну.
Коренные жители легко превращаются в созерцающих, «у кого на глазах убивали»:
Вы, созерцающие,
вы не подняли убийственную руку,
но праха с вашей тоски
не стряхнуть вам,
вы, стоящие там, где прах в свет
превращается.
Прах превращается в свет — вездесущая алхимическая трансмутация у Нелли Закс — а при сем присутствующие созерцатели остаются прахом. Такова «древняя игра палача с жертвой, гонителя с гонимым». Нелли Закс пишет, предостерегая, «чтобы гонимые не стали гонителями».
Гротескная взаимность гонителя с гонимым не ускользнула от внимания Нелли Закс. Она пристально исследовала черную тень, упавшую на ее жизнь. Сталин все-таки присматривался к Мандельштаму. Гитлер даже не сознавал таинственных уз, которые связали его со среднестатистической единицей по имени Нелли Закс, обреченной на переселение (так на жаргоне нацистов называлась ликвидация). Между тем Нелли Закс обрисовала Гитлера по-своему не менее точно, чем Осип Мандельштам обрисовал «душегубца и мужикоборца» в известном стихотворении. Впрочем, оба стихотворения самой своей точностью подчеркивают различие между Сталиным и Гитлером, и оно оказывается различием не только по отношению к поэту, но и по отношению Сталина и Гитлера к самим себе. Кремлевский горец страшен у Мандельштама потому, что он вне человечества и человечности. Действительно, Сталин оставался внешним и для тех, кто славил, и для тех, кто проклинал его. Внутренний Сталин немыслим и невозможен. Сталин был внешним прежде всего для Джугашвили. Напротив, Гитлер был внутренним для Шикльгрубера и тем более для своих последователей. Поэтому в стихотворении Нелли Закс его накликают тайные желания крови. Гитлер овладевает человеком извне, потому что вырывается изнутри, воплощая запретные постыдные чаянья, как это описано у Фрейда и Юнга. Известный психолог Эрих Фромм выпустил в 1973 г. обширный труд под названием «Анатомия деструктивности», поставив Гитлеру диагноз: скрытая, но воинствующая некрофилия. «Человек, снедаемый сильнейшей, всепоглощающей страстью к разрушению», — так характеризует Гитлера Эрих Фромм. Нелли Закс уже в сороковые годы писала, что жуткого кукольника вызвало к жизни «тысячекратно умерщвленное царство земное», и знак вопроса в конце строфы лишь усугублял точность в прозрении.