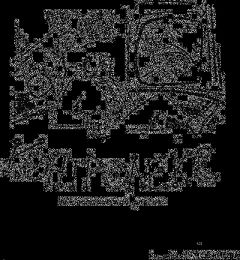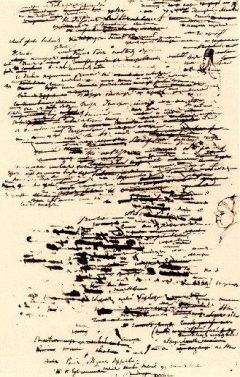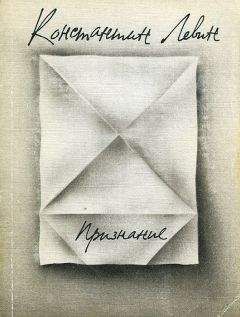Нелли Закс - Звездное затмение

Обзор книги Нелли Закс - Звездное затмение
Сергей Аверинцев. Писать стихи после Освенцима
«Страшные переживания, которые привели меня как человека на край смерти и сумасшествия, выучили меня писать. Если бы я не умела писать, я не выжила бы» — такое признание мы находим в письме Нелли Закс к молодой исследовательнице ее творчества.
Это отнюдь не мелодрама, не игра в трагизм. Здесь каждое слово приходится принимать совершенно буквально. Путь Нелли Закс в поэзии — особый. Поражает уже сам по себе факт необычно позднего расцвета: поэтесса, родившаяся в 1891 году, в один год с Иоганнесом Бехером, Иваном Голлем, Осипом Мандельштамом, сверстница поколения экспрессионистов, стала новым именем немецкой поэзии послевоенного периода. Ее первые настоящие стихи, которые она могла наконец признать своими, были написаны, когда ей было за пятьдесят; вдохновение пришло к ней в 40-е годы, слава — в 60-е. Исток ее творчества — переживание беды, личной, семейной и всеобщей беды, скорбь о замученных в годы гитлеризма. Это придает ее слову редкую прямоту.
Между тем ее жизнь начиналась как буржуазная идиллия: мечтательная, ушедшая в себя девица играла с ручной ланью на вилле своего отца, берлинского фабриканта еврейского происхождения. Крайняя впечатлительность гнала ее от людей; даже благополучие, окружавшее ее, оборачивалось для нее тем, что она впоследствии назовет «кровоточащей бойней детского страха». Круг ее чтения составляли преимущественно немецкие романтики, а также старые мудрецы Индии и Европы — от «Бхагавадгиты» до Франциска Ассизского, Майстера Экхарта и Якоба Бёме. Что до современной ей немецкой литературы, то ее Нелли Закс фактически не знала. Своего старшего друга она нашла в шведской литературе: это была Сельма Лагерлёф, переписка с которой велась на протяжении десятилетий. Вне всякой связи с литературной жизнью экспрессионистских лет возникает тихое словесное рукоделие мечтательной барышни…
Затем пришел 1933 год, как исполнение самых страшных снов. Отец Нелли Закс к этому времени умер, она осталась с престарелой матерью, и две беспомощные женщины, в мгновение ока лишившиеся материальной обеспеченности, не изыскали возможностей уехать из Германии, где их ждали каждодневные оскорбления. Болезненно чувствительные, словно обнаженные, нервы писательницы подверглись воздействию такой реальности, которая ломала куда более выносливых людей.
Мы изранены до того,
Что нам кажется смертью.
Если улица вслед нам бросает
недоброе слово.[1]
Человек, несчастливую любовь к которому Нелли Закс пронесла через всю свою жизнь, сгинул в одном из лагерей смерти (это — «мертвый жених», образ которого проходит в ряде стихотворений). Ее самое ожидала та же участь. В последнее мгновение она была спасена от физической гибели вмешательством той же Сельмы Лагерлёф, пустившей в ход все свое влияние. В мае 1940 года Нелли Закс вместе с матерью разрешено было вылететь в Стокгольм (пожалевший их чиновник конфиденциально предупредил, что, если они отправятся по железной дороге, младшую заберут прямо из поезда на границе). Вся остальная родня погибла. Еще десять лет единственным близким человеком оставалась мать; затем умерла и она. Вплоть до своей кончины (12 мая 1970 г.) Нелли Закс жила в той же стокгольмской квартире, куда ее забросила судьба, — одинокая, старая женщина в чужом городе, потерявшая друзей, родных, родину, обожженная страшным опытом, поставленная на самую грань безумия.
Но словно взамен всего утраченного ее голос приобрел неожиданную силу. От неуверенной, необязательной красивости ее прежних литературных опытов не остается и следа; ее сменяет оплаченная страданиями весомость каждого слова и образа, сосредоточенное чувство внутренней правоты. Можно вспомнить по контрасту изречение философа-эссеиста и музыкального теоретика Т.Адорно «После Освенцима нельзя писать стихов». В этой сентенции, приобретшей большую известность, выразило себя не слишком глубокое и не слишком великодушное представление как о страдании, так и о стихах; вся поздняя поэзия Нелли Закс (в единстве с древней общечеловеческой традицией «плача» об общей беде) опровергает Адорно. Для нее, Нелли Закс, именно после Освенцима нельзя было не писать стихов; в очень личном, но и в сверхличном плане стихи были единственной альтернативой неосмысленному, непроясненному, бессловесному страданию, а потому — безумию. Ценой ее собственной боли и гибели ее друзей был добыт какой-то опыт, какое-то знание о предельных возможностях зла, но и добра, и если бы этот опыт остался не закрепленным в «знаках на песке» (заглавие одного из поэтических сборников Закс), это было бы новой бедой в придачу ко всем прежним бедам, виной перед памятью погибших. Стихи здесь — последнее средство самозащиты против жестокой бессмыслицы. Отсюда их необходимость — главное их преимущество. Писательница до последних месяцев жизни не могла перестать работать: это от нее уже не зависело.
Первый послевоенный сборник стихов Нелли Закс «В жилищах смерти» был напечатан в 1947 году восточноберлинским издательством «Ауфбау» (тогда советская зона оккупации). За ним последовали публикации в Амстердаме, Лунде, с 1956 года — в ФРГ. Некоторое время они оставались незамеченными. Лишь в начале 60-х годов к писательнице, стоявшей предельно далеко от того, что называют литературной жизнью, пришла наконец ее «беззвучная слава» (выражение Ханса Магнуса Энценсбергера). Ее произведения переводят на различные языки Европы. Длинный ряд литературных премий завершился Нобелевской премией, врученной Нелли Закс в день ее 75-летия.
Известность не принесла больному, старому человеку ничего, кроме нервного кризиса, воскресившего старые страхи: ей мерещилось, что она снова в западне, в руках ловцов. Не следует искать в этом приступе весьма понятной немощи больше смысла, чем в нем есть; с другой стороны, однако, в сравнении с крайней серьезностью истоков и задач поэзии Нелли Закс литературный успех и в самом деле представляется некоей подменой. Человек пытался силами своего слова раскрыть, передать другим свой опыт боли, поставить перед глазами предостерегающие образы палачества и страдания — и видит, что его слово стало всего-навсего «литературным событием», а предостережение едва ли кому-нибудь внятно.
Ибо вся зрелая поэзия Нелли Закс живет на редкость непосредственной связью с ее выстраданным опытом, объективируя этот опыт, очищая его от всего слишком случайного, личного, непросветленно-нервного, но заботясь о том, чтобы не утратить непреложности, присущей ему именно как опыту. Какие-то отклонения от сосредоточенности на главной теме появляются разве что в наиболее поздних стихах писательницы, и это довольно понятно — нельзя же тридцать лет подряд вести один и тот же плач на одной и той же ноте; но это уже было связано со спадом творческих сил, с расслаблением логики образов. Разумеется, и возраст Нелли Закс брал свое, кладя конец поразительно позднему расцвету. Но факт остается фактом: ее творчество тем ярче, чем оно ближе по времени к болевой точке годов массовых депортаций. Вероятно, она и останется в истории литературы прежде всего как автор уже упоминавшегося лирического сборника «В жилищах смерти», других сборников 40-х и 50-х годов — «Омрачение звезд», «И никто не знает дальше», «Бегство и преображение», а также мистериальной драмы «Эли», возникшей еще в 1943–1944 годах. Все эти произведения образуют как бы единый и написанный на одном дыхании реквием — очень цельное выражение и последовательно вникающее прочувствование и продумывание опыта жертв исторического зла.
Речь идет именно об опыте жертв. Такого персонажа, как герой, там нет. Персонажей, собственно, только два — палач и жертва, и у каждого из них есть своя разработанная геральдика метафор, наполняющая до отказа словесно-образное пространство стихотворений: палач — это «охотник» из какого-то дочеловеческого мира, «рыболов», «садовник смерти», «соглядатай», подкрадывающиеся в тишине «шаги», «руки» и «пальцы», созданные для дарения и творящие злодейство; жертва — это трепещущие «жабры» вытаскиваемой из вод и разрываемой «рыбы», зрячий, но уязвимый «глаз», поющая, но ранимая «гортань» соловья, его же способные к полету, но хрупкие «крылья». Эти сквозные символы переходят из одного стихотворения Нелли Закс в другое. Как характерно, что «руки» и «пальцы», эти эмблемы человеческой активности, сопрягаются только с палачеством, между тем как невинность предстает в каждой из этих метафор страдательной и по сути своей обреченной — глаз ослепят, гортань удушат, крылья сломают, жабры будут смертно томиться без воды! «В этом ночном мире, — пытается Нелли Закс отгадать какую-то страшную загадку, — в котором, как кажется, всегда царит тайное равновесие, невинность всегда становится жертвой». Поэтому особую силу приобретают образы страдания животных — так сказать, чистого страдания, без вины, без выхода в мысли и слове, голой боли в себе. Рядом с изгнанной Геновефой, средневековым символом оклеветанной невинности, и еврейским символом Шехины, страждущего присутствия в мире Б-га,[2] в том же ряду, что эти образы, но и за ними, глубже них, возникает третий образ, созданный фантазией Нелли Закс: