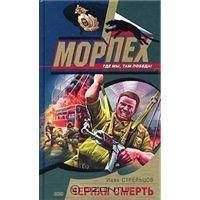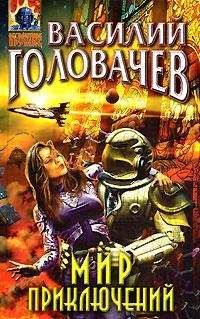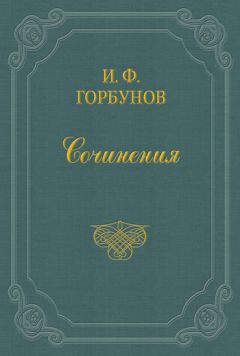Иван Рядченко - Время винограда
Поют хлеба
В газете дали мне командировку.
Маршрут не нов, и тема не нова.
Сказал редактор:
— Нужно зарисовку —
ведь завтра начинаются жнива.
И вот шагаю по полю с блокнотом.
Грузовики торопятся, пыля.
Хлеба шумят и бредят обмолотом.
От духоты потрескалась земля.
Случайный спутник, почтальон колхозный,
подводит за рога велосипед.
— Прислушайтесь: хлеба поют…
Серьезно!
Заметьте, песни задушевней нет…
Я напрягаю слух, но бесполезно:
на землю шорох сыплют колоски.
Смеюсь в душе: «Какая ж это песня?
Ей-богу, есть на свете чудаки!»
Я растираю колосок в ладони,
а жаворонок тает в вышине.
И вдруг далекий перелив гармони
по гребням ржи доносится ко мне.
Он то звучит, то снова замирает.
В нем сквозь веселье вспыхивает грусть.
Уборка в поле…
Кто же там играет?
С похмелья, что ли, жарит наизусть?..
Почтарь колхозный в кепке волокнистой
лукавинкою блещет из-под век:
— Не знать о нашем Пашке-гармонисте?!
Да ты не с Марса ль, милый человек?..
Что ж, повод есть!
Садимся у дороги,
друг другу папиросы подаем.
Колосья тихо кланяются в ноги
и шелестят о чем-то о своем.
— Вплетет в фуражку белую ромашку,
за руль — и только пение да свист.
У нас в колхозе все хвалили Пашку —
заметь, он был отменный тракторист.
Любил, чтоб чуб — вразброс, не под гребенку,
гармонь на грудь — и песням нет конца.
Но к хлебу относился, что к ребенку:
бывало, колос гладил, как мальца.
Девчат, заметь, не огорчал изменой —
дарил одной Марьяне васильки.
Из-за нее под звездами Вселенной
ребята в ход пускали кулаки…
Ты примечал на зарослях бурьяна
колючие, но яркие цветы?
Как те цветы, была полна Марьяна
влекущей, но жестокой красоты.
Случалось, глянет черными глазами —
и словно выпьешь маковый отвар.
Была та красота что наказанье —
и Пашку отравил ее угар.
По вечерам над Бугом в верболозе
их вместе люди стали замечать.
Как водится, пошел слушок в колхозе,
что загс готовит круглую печать…
Хлеб-соль и петушков на полотенце
уже носили сваты-усачи.
Но тут на свадьбу подоспели немцы —
мосты и хаты вспыхнули в ночи,
взметнулись взрывы дымными кустами,
зарылся в пыль веселый каравай,
помчались танки с черными крестами —
и сгорбился от горя урожай…
Не оглянулись — бьют прикладом в сенцы,
не повернулись — чужаки в гостях.
Войною был впечатан в полотенце
след сапога с подковой на гвоздях…
Тогда Марьяна к Пашке прибея?ала,
дрожа, поцеловала первый раз:
война, мол, нашей свадьбе помешала,
но нет мне света без любимых глаз.
Три дня продлился месяц их медовый.
Согнал селян на площадь комендант
и заявил:
— Я есть порядок новый.
Вы завтра все косить на фатерланд…—
Уже вторые петухи пропели.
Дышала рядом сонная жена.
А Пашка все ворочался в постели,
поднялся, помаячил у окна.
Потом напился ледяной водички,
сказал «прости», на спящую взглянул,
достал в подвале керосин и спички
и к полю осторожно завернул.
Он миновал посты сторожевые.
Птиц не вспугнул, не наступил на сук.
Вошел в хлеба…
Колосья, как живые,
доверчиво касались добрых рук.
Но вспомнил он, кто жаждет этих злаков,
кто топчет синий васильковый луг.
Колосьям поклонился,
и заплакал,
и зубы сжал,—
и огненный петух
пошел гулять по высохшему хлебу,
да так гулять, что стало жарко небу,
что темнота отхлынула с пути!..
Но Пашка от врагов не смог уйти.
Ему запястья проводом стянули.
А комендант на выдумки был лих:
взял два патрона новеньких
и пули
неторопливо вытащил из них.
О, этот комендант работал чисто!
Сказал:
— Зер гут. Ты есть не пахарь впредь! —
И порох выжег очи тракториста,
чтоб никогда на хлеб им не смотреть…
Не знаю, где взялась у Пашки сила:
он сам прошел до хаты полсела.
Марьяна во дворе не голосила,
бледна, но так же холодно красива,
безмолвно Пашку в хату завела.
— Ты обо мне подумал ли хоть малость? -
Злость закипела в ней, как в казане.—
Ты хочешь, чтоб без хлеба я осталась?..
Так знай же, что слепец не нужен мне! —
Вещички в торбу — и долой из хаты,
и в тот же час покинула село…
Опять поля на урожай богаты.
Быльем, заметь, былое поросло.
Прошла война.
Случалось, пил наш Пашка:
жалели люди, подносили всласть.
Ой, как порой ему бывало тяжко!..
Да степь родная не дала пропасть.
Весною в пору тракторного гула
он взял гармонь и растянул меха.
Его с бригадой в поле потянуло,
где старый пар взрывали лемеха.
Он заиграл. Пошла за нотой нота
про черны очи да про журавлей.
И незаметно спорилась работа —
оно с гармошкой все же веселей.
С тех пор, заметь, его гармошка с нами.
Она поет про счастье, про любовь.
А он глядит незрячими глазами
и слышит шорох вызревших хлебов…
Такая быль.
Однако заболтался!
Мне с письмами поспеть бы на обед…—
Мой спутник озабоченно поднялся,
взял снова за рога велосипед.
Парил орел над полем неподвижно.
Звучала грусть.
Светился небосклон.
— А о Марьяне ничего не слышно? —
Сердито хмыкнул старый почтальон:
— Ей жизнь, заметь, никак не улыбнулась.
С другими тоже наломала дров.
Дней десять будет, как в село вернулась…
— А он?
— Что — он?.. Играет… Будь здоров!..—
И почтальон, насупившися, строгий,
вскочил в седло и закрутил педаль.
Вздохнул я и побрел своей дорогой.
Мне в новом свете открывалась даль.
Хлеба стеной стояли небывалой.
Навстречу, в колебаньях духоты,
шла женщина, уже слегка привялой
и все еще жестокой красоты.
Дредноутами в дымке беловатой
комбайны плыли. Ширились жнива.
Как дальний порт, маячил элеватор.
Зерно текло ручьями в кузова.
Зерно текло.
Поток его шершавый
был нескончаем, словно жизнь сама.
Зерно, как золотая кровь державы,
могуче наполняла закрома.
Перепела кидались в грудь, ослепнув.
Лучился жатвы солнечный огонь.
А где-то в поле радовалась хлебу
и временами плакала гармонь.
Прохожая прислушалась к гармони.
Тревожно зашептались колоски.
И женщина вдруг краешком ладони
смахнула каплю с дрогнувшей щеки
и вся поникла, как побитый колос…
А та гармонь звучала, как судьба.
И я пошел на этот ясный голос —
и вдруг услышал,
как поют хлеба.
Дюжин и Фара
Примерно год на той большой войне,
на той земле, прострелянной и шаткой,
я был, как говорится, на коне,
а проще — ездил на хромой лошадке.
В то время в биографии моей
немногие насчитывались звенья:
лишь номера больших госпиталей,
одна медаль, два фронта, два раненья.
В моих богатствах числился планшет,
добытый у фашиста в схватке краткой,
да двадцать молодых безусых лет
и крупповский осколок под лопаткой.
Потом запасный полк.
Не без причин,
экстерном сдав экзамены законно,
я получаю офицерский чин
и должность адъютанта батальона.
Как звездочки сверкали — просто страх!
Кося глаза па них, как на награду,
сияя, словно хром на сапогах,
я поспешил представиться комбату.
Он был седой, подтянутый гигант.
А голос тонкий, хитрая ухватка.
— Ну, хорошо. Трудитесь, лейтенант.
Да, кстати: вам положена лошадка…
Вот так подарок!
Захватило дух.
Хоть батька из казачества Кубани,
однако сам я — городской продукт
и видел скачки только на экране.
Но все же двадцать лет… И сразу мне
воображенье подсказало остро:
вот я лечу на гордом скакуне —
и за сердца хватаются медсестры!
Я бросился разыскивать хозвзвод.
— Где командир? — задал вопрос солдату.
— Вон, видите, хлопочет у подвод.
Да вы его узнаете по мату…
Сердитый и небритый мужичок
на голос обернулся удивленно.
В глазах читалось: этот вот сморчок
и есть начальник штаба батальона?!
Легла на миг меж нами тишина,
как порох, что внезапно обнаружен.
Он буркнул неохотно:
— Старшина.
И только погодя добавил:
— Дюжин.
Когда из тени выступил на свет,
он оказался столь великолепен,
что для того, чтоб написать портрет,
по меньшей мере требовался Репин.
Ходил бочком хозяйственный наш бог.
В плечах лежала каменная тяжесть.
Он был невероятно кривоног,
при этом ростом невысок и кряжист.
Чтоб с Доном связь никто не опроверг
(позднее остряков не переспоришь!),
казак носил фуражку — синий верх
и яростно малиновый околыш.
Из-под фуражки неуютный взгляд
ощупывал вас жестко и колюче.
А было старшине за пятьдесят,
к вискам прилипли серенькие тучи.
Он оглядел презрительно меня
и вдруг сказал без всяких предпосылок:
— Выходит, вам определить коня? —
Казак фуражку сдвинул на затылок.
Подумал я: «Ну, кажется, контакт!»
А он, как будто назначая кару,
поведал хрипло:
— Есть лошадка… Хвакт!
Пойдемте, лейтенант. Возьмете Хвару!
(Он в речи, что порой была резва,
заострена, как новенькое шило,
все звуки «эф» переменял на «хва»,
уверенный, что прав непогрешимо).
Он уткой закачался впереди
и, видно, не без внутренней ухмылки,
подвел меня к привязанной к жерди
пузатой непородистой кобылке.
— Вот, лейтенант: берите транспорт ваш…
На стременах любого мирно носит.
Хоть ростом и не вышла — хвюзеляж
весь в яблоках, что добрый сад под осень!
* * *
Я поглядел на Фару. Весь мой пыл
и все мое былое вдохновенье
заштатный вид лошадки растопил
в одно неуловимое мгновенье.
Когда я увидал ее сперва,
мне стало не до мыслей вдохновенных:
коротконога; грива, как трава;
облезлый хвост похож на старый веник.
Не радовал, конечно, и хребет,
прогнутый многолетнею нагрузкой,
и общий вид, и грязно-серый цвет,
что делал Фару, несомненно, тусклой…
«Не лошадь, а хвостатая карга»,—
подумал я с запальчивостью веской,
и в Дюжине почувствовал врага
всех лейтенантов Армии Советской!
Себя в седле я видел без прикрас,
как рыцаря с насмешливою славой.
Тут Фара на меня скосила глаз —
вполне живой, блестящий и лукавый.
Затем она дохнула горячо
и, словно ободряя, как ребенка,
слегка потерлась мордой о плечо
и вдруг заржала — молодо и звонко.
И тут же красный, как степной огонь,
тряхнувши гривой возле сосен хмурых,
на ржанье Фары отозвался конь,
высокий жеребец по кличке Сурик.
Проверил я — не потная ль спина
у Фары, потрепал по холке кратко
и вслух сказал:
— Спасибо, старшина.
И вправду, знаменитая лошадка…
* * *
Над Венгрией гнал ветер облака.
Желтели на стерне осенней тыквы.
Собрал нас в поле командир полка —
мы собираться конными привыкли.
Среди коней известнейших пород
и плащ-палаток — офицерских мантий —
я выглядел, как юный Дон-Кихот
на далеко не юном Россинанте.
Наш командир, полковник Горобей,
заметивший мою смешную Фару,
вдруг приказал пустить в галоп коней,
чтобы задать им, зажиревшим, жару.
А впереди зиял немецкий ров —
остаток боевых фортификаций.
Кометы грив роскошных и хвостов
тотчас по ветру стали распускаться.
Комбат скакал на Сурике своем.
За Суриком вовсю летела Фара.
Как будто от разрывов, чернозем
вздымался от копытного удара.
У Сурика — отличнейшая стать.
Он ров перемахнул без промедленья.
Лошадка не желала отставать.
Ослабил я поводья на мгновенье —
и Фара дерзко ринулась вперед,
в задоре никому не уступая.
Толчок.
Прыжок.
Отчаянный полет —
едва достигли мы другого края…
Скользнули ноги задние по рву.
Но, перебрав передними упрямо,
лошадка вдруг заржала в синеву —
и сразу позади осталась яма.
Я понимал, что Фара — не Пегас,
и потрепал по холке прозаично.
А Фара на меня скосила глаз
и фыркнула — мол, это нам привычно!
Осталось это фырканье в ушах,
хоть лет с тех пор отсчитано немало…
А кавалькада перешла на шаг —
и тут внезапно Фара захромала.
Понять что-либо не хватало сил —
ведь не загнал, не падали в горячке…
Меня неделю Дюжин поносил,
как будто это я устроил скачки.
Неделю ездить — видно, неспроста,—
не разрешал мне дьявол кривоногий.
Но как-то на проселочной дороге
все сразу стало на свои места.
* * *
Дунай,
Дунай!
Следы в размывах ила
и облака, как гуси, па реке.
Ведь фронтовая юность говорила
со мною на венгерском языке.
Туманом над стернею золотистой
ходила осень, брызгала дождем.
Еще по замкам прятались хортисты,
скрывая автоматы под плащом.
Еще подстерегала где-то рядом
война и смерть от пули из окна…
Мы в штаб однажды ехали с комбатом.
Вокруг поля, деревья, тишина.
А роща впереди была увита
туманной дымкой…
В сонной тишине
лишь монотонно цокали копыта.
Шел мирно Сурик с Фарой наравне.
Молчали мы, не думая о пуле.
Баюкали нас и земля, и высь.
И вдруг кнутами выстрелы хлестнули
и мухи возле уха пронеслись.
— Назад! — вскричал комбат.
Рванулся Сурик,
и Фара понеслась за жеребцом.
А вслед нам неуемно в первый сумрак
летела смерть, налитая свинцом.
На испещренной лунками дороге,
на бешеном аллюре, в полумгле,
у Фары стали подгибаться ноги…
Как в катапульте, я сидел в седле.
Однако мы удрали от погони,
хоть у лошадки задымился круп…
Когда мы очутились в батальоне,
комбат был бел, как пена с конских губ.
И, несмотря на то, что был гигантом,
на Дюжина обрушил тонкий крик:
— Негодник! Что ты сделал с лейтенантом?!
Подсунуть эту клячу… гробовщик!..
Наш Дюжин очень уважал комбата,
который проявлял обычно такт.
Казак развел руками виновато:
— Лошадка героическая… Хвакт!
Не по нутру ей городские плиты —
с казаками в атаку шла она.
А то, что бабки пулей перебиты —
так то, хвактично, не ее вина…
И было что-то в голосе такое,
скорей всего, растроганность и боль,
что вдруг комбат остыл, махнул рукою,
тем жестом словно говоря: уволь…
Стер со щеки я капли дождевые
и, не смотря в старшинские глаза,
отвел в конюшню Фару — и впервые
сам ей насыпал щедрого овса.
Перенесли мы базу в Сихалом.
Не ведаю, что с Дюжиным случилось,
но как-то днем, наполненным теплом,'
переменил он, вроде, гнев на милость.
Я снова собирался в штаб полка.
Я приказал, чтоб мне подали лошадь.
И увидал еще издалека,
что он меня собрался огорошить.
Он шел ко мне, ведя на поводу,
нисколько не подчеркивая власти,
кровей венгерских чистую Звезду —
красавицу почти вороньей масти.
Она сердца всем разбивала в прах
и шеей лебединого овала,
и тем, что как бы шла не на ногах,
а вроде бы на струнах танцевала.
Она была надменна и горда,
как будто ощущала блеск короны.
И в самом деле, белая звезда
на лбу ее светилась раскаленно.
И Дюжин,
как богатый меценат,
развел руками празднично и щедро:
— Вот, Звездочку берите, лейтенант!
Хвактически, она пошибче ветра…
В моей груди перехватило дух:
признал, признал, чертяка колченогий!
Но я пробормотал лишь «ладно» вслух
и через миг помчался по дороге.
Звезда такою иноходью шла,
что всадник мог в седле не шевелиться:
казалось, расправляла два крыла
и вас несла по воздуху, как птица.
Приехав в штаб, у низеньких ворот
привязывал я долго иноходца
и с наслажденьем ждал, пока народ
на чудо подивиться соберется.
Шли офицеры в скрипе портупей,
восторг связистки выражали веско.
И даже сам полковник Горобей,
взглянув в окно, задернул занавеску.
Связистка Маша, прислонясь к крыльцу,
сказала, запинаясь и краснея:
— А эта лошадь очень вам к лицу!
Вы, если скучно,
заезжайте с нею…
Вскочив в седло, я тронулся назад,
нахохленный от спеси, слово аист,
и знал, что офицеры вслед глядят,
испытывая истинную зависть.
Звезда шла рысью.
Мерно даль текла.
Потом Звезда шарахнулась внезапно,
и я едва не выпал из седла,
спиной невольно ожидая залпа.
Однако на полях стояла тишь.
А Звездочка храпела и дрожала.
Я чертыхнулся — оказалось, мышь
дорогу вороной перебежала!
Весь путь обратный Звездочка, увы,
шарахалась, дышала учащенно.
В тот день с ее высокой головы
упала королевская корона.
А Дюжин ждал…
Поводья на ходу
швырнув ему, я крикнул с пылу, с жару:
— Прошу в дальнейшем не седлать Звезду,
а подавать положенную Фару!..
* * *
А вечерком с бутылкою вина
явился старшина ко мне нежданно.
Сел. Помолчал. Промолвил:
— Да-а, война…
Она навек для нас, хвактично, рана…
Ты не серчай, пожалуй, на меня.
Конечно, Хвара — лошадь не для скачек.
Я б мог получше подобрать коня.
Но для меня лошадка много значит.
Я больше года воевал в седле.
Когда б не Хвара, хвакт тебе открою,
ходил бы я сейчас не по земле,
а спал бы где-то под землей сырою.
Меня из пекла вынесла она
прямехонько к санбату за Борками,
хотя самой досталось ей сполна —
скакала с перебитыми ногами…
Теперь-то от нее воротят нос,
болтают: мол, хромая и кривая…
Так что ж — прикажешь запрягать в обоз,
когда она, хвактично, строевая?!
Он помолчал, потом вздохнул незло.
— Я б сам на ней похлеще иноходца…
Да только не могу вскочить в седло —
нога-то, окаянная, не гнется!
Ты — новичок и потоньшей жерди,
и очень легок в рыси и галопе…
Так ты уж, лейтенант, не осуди,
что с Хварой ковыляешь по Европе!
Я предложил вина. Но старшина
поднялся и сказал совсем недлинно:
— Тебе подарок. Ну, а я вина
хлебну лишь после взятия Берлина!
* * *
Ах, Фара, Фара!
Юности верны
воспоминаний дали голубые.
Четыре иностранные страны…
Солдатские встревоженные были…
Когда в Берлине кончилась война,
мы в Австрии стояли погранично.
Сказал мне захмелевший старшина:
— Теперь, выходит, выжили хвактично.
Был дан приказ идти на свой кордон.
Штабы полка уселись на каруцы.
А Фару запрягли мы в фаэтон,
не ведая, что оси перетрутся.
Пора восторгов, сбывшихся надежд.
Мир пушкам и сожженному железу…
И шел обоз наш через Будапешт
от самого Бржеславля на Одессу.
Четыре иностранные страны
и первое невзорванное лето…
Мне Фара освещала путь с войны —
и был я благодарен ей за это!
* * *
Потом расформировывался полк
в родной Одессе, на Большом Фонтане.
Палило солнце. Лился птичий щелк.
Вино победы пенилось в стакане.
Явился к нам с медалью на груди
побритый Дюжин в гимнастерке старой
и прохрипел:
— Ты, лейтенант, пойди,
пойди, хвактично, попрощайся с Хварой…
А сам, видавший виды на войне,
весь в темных шрамах от враждебной стали,
разглядывать стал что-то на стене,
чтоб мы его глаза не увидали.
Я знал уже, что полковой обоз
с каруцами, со сбруей, с лошадями
решили в местный передать колхоз,
покуда не справлявшийся с полями.
Я к Фаре подошел в последний раз.
Седая, не овеянная славой,
лошадка на меня скосила глаз —
знакомый глаз, блестящий и лукавый.
И в этой морде, в очертанье скул
так было все и дорого, и мило,
что словно вдруг осколок резанул —
и безотчетно сердце защемило.
А серая дохнула горячо
и, словно ободряя, как ребенка,
слегка потерлась мордой о плечо
и вдруг заржала — молодо и звонко.
Я челку ей поправил между глаз
и зашагал обратно без оглядки…
Тут, собственно, кончается рассказ
о фронтовой хромающей лошадке.
Судьба меня забросила во Львов.
А года через три, попав в Одессу
и повидав знакомых земляков,
я посетил колхоз — для интереса.
Там председатель был уже другой.
Усталый, пропотевший и огромный,
потер он лоб единственной рукой:
— Вы говорите Фара? Нет, не помню…
И, в горечи скривив щербатый рот,
добавил он:
— Отыщется едва ли…
Был недород, нам выпал трудный год,
и, если честно, люди голодали…
Ну вот и все.
Но вновь седло скрипит.
Галопом мчатся прожитые годы.
Лишь стук подков,
да пыль из-под копыт,
да ветер опьяняющей свободы!
Едва услышу ржание коня,
все делается чутким, как в радаре,
как будто это молодость меня
зовет к себе из невозвратной дали.
На улице Жанны — весна