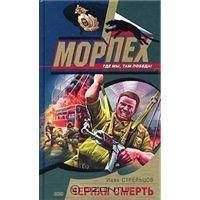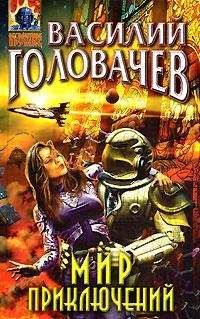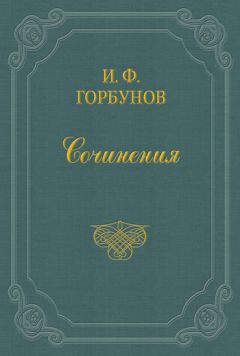Иван Рядченко - Время винограда
Хлебная витрина
Месяц март, что за глупые шутки?
Тучи бродят в горах, как стада.
Беспрерывно четвертые сутки
с неба льется на землю вода.
Капли лупят то звонче, то глуше,
на асфальте пускаются в пляс.
Словно сто стеклодувов из лужи
пузыри выдувают для нас.
Дождь идет бесконечный и гулкий.
Незаметно улыбок нигде.
Лишь с витрины пшеничные булки
улыбаются падшей воде.
Сон в летнюю ночь
Я ночью засыпаю наспех,
устав от летнего огня.
Но Белый дом, как белый айсберг,
морозно дышит на меня.
Ворочаясь, таю обиду,
хочу согреться — нету сил,
как будто кто-то Антарктиду,
как холодильник, не закрыл.
Мне снова, снова, снова снится
щемящий сон былых пехот —
мохнатый иней на ресницах
и на губах застывший лед.
Снежинки пляшут на патронах.
В морозных лапах замер сад.
И только грузы груш нейтронных,
сорвавшись с веток, вниз скользят.
Тепло и тихо в ночи эти.
Не будь в претензии к врачам,
что даже маленькие дети
порою стонут по ночам.
Они еще не знают азбук,
но и на них, под грозный гул,
тот беспощадный белый айсберг
дыханьем гибели дохнул.
Ворона
На тихой сосне у балкона —
уже замечаю не год —
сварливая птица ворона
в своем королевстве живет.
Чернеет ворона так резко,
так солнце течет по крылу,
как будто для цвета и блеска
ее окунули в смолу.
Кружится она над поляной,
ей все не сидится в гнезде.
Мы с ней состоим в постоянной,
хотя и безмолвной вражде.
За стенкой скворешника яркой
скворчиха выводит птенцов.
Не каркай, ворона, не каркай
над будущим новых жильцов!
Ну, что ты за странная птица?
Свой клюв повсеместно суешь,
не зная, где правда гнездится,
а где золоченая ложь.
Колдую над строчкою жаркой
и жду желторотых удач.
Не каркай, ворона, не каркай,
а лучше от счастья заплачь.
Заплачь — и слезою безгрешной
порадуйся ты наконец,
что где-то за стенкой скворешни
на свет появился птенец!
Четыре срока
Четыре срока жизни, вы со мною,
мои владыки и мои рабы.
Печаль моя окрасит клены хною,
набросит сети ливня на столбы.
Восторг мой, словно юноша кудрявый,
с земли изгонит ледяные сны
и выведет на свет из почвы травы,
как Черномор — дружину из волны.
Я зрелости своей не пожалею,
не пожалею щедрости своей,
чтоб сделались сочнее, тяжелее
светила яблок в зелени ветвей.
Но вот заплачет иволга лесная:
прощай, будь мудрым, движется зима…
А что мне делать с мудростью — не знаю,
как с нею быть, не приложу ума.
Обида
Скрипнул старый дуб — и соловьи
вмиг слетели с песенной орбиты.
Не чужие люди, а свои
нам наносят горькпе обиды.
Коль заденет человек чужой,
можно и понять, и защититься,
и не так наглядно, в лад с душой,
бьется боль, как раненая птица.
Каверзы от ближнего не ждешь
загодя, как поезд на перроне.
Потому-то ложь его — как нож,
черствость — словно камень на ладони.
Наше сердце никогда не спит,
будто красный маленький колибри.
Берегите близких от обид,
чтобы раньше срока не погибли.
Виноград
Раздавленные гроздья винограда,
не сокрушайтесь о судьбе своей,
Я. славлю вас!
Вам выпала награда
в отраду превратиться для людей.
Что толку праздно на лозе ютиться?
От забытья хорошего не жди!
Не много чести, чтоб склевали птицы
иль сбили в грязь осенние дожди.
Раздавленные гроздья винограда,
плоды объятий солнца и земли,
я славлю вас!
Но будет ли награда
за жертву, что вы честно принесли?
Могучий сок, перебродивший в чане,
себе какую предназначил роль?
Прервет ли чье-то грустное молчанье?
Продлит веселье?
Обезболит боль?..
Раздавленные гроздья винограда,
себя я от тревог не уберег:
не застилайте тучею нам взгляда,
не выбивайте землю из-под ног.
Поэмы
Передать Ивановой
Ивану Гайдаенко
На черную глину переднего края
свалился Степан Байдебура — матрос.
Рванул воротник, захрипел, умирая,
и тихо такие слова произнес:
— Братишка, земляк, помирать неохота.
Еще недобито немало зверья…
Но все же недаром морская пехота
навеки земле отдает якоря.
Ты слышишь, братишка, земляк белобровый,
невеста мечтает, что Степа живой…
Вернешься с войны — передай Ивановой:
Степан, мол, любил до доски гробовой.
Братишка, мне больше не сделать ни шагу…
Смотри же, исполни матросский завет:
сними с гимнастерки медаль «За отвагу»,
невесте отдай как последний привет…
Уткнулся лицом он в степную ромашку,
вдохнул аромат, приподнялся слегка:
— И слышишь, браток…
не снимайте тельняшку…
и море пусть рядом… зовет моряка…
С губами расстались последние звуки.
Матрос над землей приподнялся опять
и лег,
разметав бесполезные руки,
как будто планету
задумал обнять.
Войска прорывались сквозь дымные дали.
Тянуло угаром с нерусских полей.
От нашего шага тряслись и дрожали
чугунные туши чужих королей.
И мимо их спеси, по крови и лужам,
вдоль сваленных зданий, деревьев, столбов
я нес наравне с котелком и оружьем
матросский подарок,
чужую любовь.
Я думал в степи, на опушке сосновой,
за миг до атаки
в огне и в чаду:
«Товарищ сказал — передать Ивановой…»
А как же я ту Иванову найду?!
Он имя ее не назвал, умирая.
Он очень спешил и забыл впопыхах…
Спросить бы — земля не ответит сырая,
хранит она тайны упорней, чем прах.
И мысль будоражила снова и снова,
и голос раздумья шептал, не спеша,—
какая она из себя, Иванова:
блондинка,
брюнетка?
Собой хороша?..
И вот наступила, назрела минута —
взрыл мокрую землю последний снаряд.
Солдат, озаренный огнями салюта,
пощупал себя — вроде выжили, брат.
Нехитрый багаж — карабин да лопата —
сданы во всесильную власть старшины.
Прошедший войну и четыре санбата,
я долгой дорогой вернулся
с войны.
Акация всюду цвела и томила,
как будто не знала дыханья боев.
Вторая весна наступившего мира
вокруг посводила с ума соловьев.
Все улицы, город — в цветочном угаре.
На бронзовом Пушкине раны видны.
Взлохмаченный, так он стоял на бульваре,
как будто бы тоже
вернулся с войны.
Увидел я море,
суда у причала,
где уголь и бочки, зерно и пенька,
откуда берет в океаны начало
путь сильных и храбрых,
мечта моряка.
Товарища голос из бездны суровой
меня в этот миг на бульваре нашел.
Услышал я вновь:
«Передай Ивановой…»
И тут же отправился в адресный стол.
Я шел, как солдат в боевую разведку,
я двум бюрократам устроил скандал,
но всех Ивановых я взял на заметку,
я их адресами блокнот исписал.
Пикировал шмель на рокочущей ноте,
мелькали стрижи.
Я уселся в саду
один на один с адресами в блокноте
и тихо сказал:
«Обойду и найду!»
Достал я медаль, и на белом металле,
навек утверждая свое торжество,
весеннего солнца лучи заблистали,
как будто погладили молча его.
Я спрятал медаль, папиросы и спички,
на первый записанный адрес взглянул,
проверил заправку по старой привычке,
вздохнул и рывком
в неизвестность шагнул.
Садовая, десять, квартира четыре.
Взбегаю на третий этаж без труда.
— Живет Иванова в четвертой квартире?
— Живет. Проходите. Направо. Сюда.
Стучу. Открывают скрипучие двери.
Выходит хозяйка в халате простом,
глядит удивленно.
— Ко мне?
— Не уверен.
— Войдите. Сейчас разберемся вдвоем.
Вхожу в комнатушку.
Конспекты и книжки
и Ленина том на скобленом столе.
С ним рядом — сухие еловые шишки,
степные цветы в неграненом стекле.
Обложка конспекта с фамилией четкой.
Прикрытый газетой холодный обед.
Жакет со знакомою пестрой колодкой —
короткая запись потерь и побед.
На старенькой тумбе — духи и тетради.
Кровать по-девичьи скромна и узка.
А в серых глазах, во внимательном взгляде,
как сестры — тревога,
надежда,
тоска.
Я все объяснил, но, наверно, туманно,
подумав, спросил по-солдатски, в упор:
— Скажите, не знали вы в прошлом
Степана? —
И сразу потух загоревшийся взор.
И девушка даже осунулась малость,
печально сказала короткое «нет»,
губу закусила и вдруг разрыдалась,
склонившись неловко на синий жакет,
который висел перед нею на стуле.
— Простите… Вы столько во мне
всколыхнули…
Я, птица залетная, гость посторонний,
услышал короткий гарячий рассказ.
Сердечное горе — как порох в патроне:
молчанье хранит, но взорвется подчас.
Она говорила, спеша и волнуясь,
как, дрогнув, упали росинки с цветов.
Ее тонкокосую школьную юность
швырнуло в гремучее пламя фронтов.
Окоп, да землянка, да шапка-ушанка,
кипенье атак да тревога штабов…
Тогда-то на землю и спрыгнула с танка
ее фронтовая большая любовь.
Глаза озорные под шлемом ребристым,
ресницы, спаленные близким огнем.
Полмесяца счастья…
Но долго танкистам
стоять не пристало на месте одном.
И вот на заре, по ракетному знаку,
заклятых врагов под собой хороня,
пошла, понеслась, устремилась в атаку
ведомая первой любовью броня.
Ушла и пропала, куда — неизвестно.
Нигде не встречалась товарищам впредь.
Лишь в сердце осталась, как сладкая песпя,
но та, что нельзя
в одиночестве петь.
Сгорело, как танк, отгремевшее лето.
Был в списки пропавших танкист занесен.
А девушка ждет-ожидает привета,
хоть мертвый,
но должен
откликнуться он!
Так вот вы какая, Любовь Иванова!..
Во веки веков не прощаю врагу,
что вашего друга — живого, родного —
ввести в комнатушку сейчас не могу.
Но нечего делать. Сказал:
— Извините.
Ошибка. Мне нужен другой адресат,—
И вышел на улицу.
Солнце в зените.
Влюбленные пары неспешно скользят.
Взглянул на окошко, где горе хранится.
Хозяйка, наверно, поплачет опять
и сядет читать про пырей да пшеницу —
она агрономом готовится стать…
Я вытащил снова блокнот с адресами,
не стал упускать уходящего дня.
Но та Иванова большими глазами
по всем адресам провожала меня.
Я шел торопливо.
Пастера, двенадцать.
Нет входа парадного.
Каменный двор.
Теперь не пришлось высоко подниматься.
Я двери толкнул и попал в коридор.
Хозяйка — годами постарше.
И снова
все тот же стандартный и робкий вопрос:
— Скажите, пожалуйста, вы — Иванова?
(А чувство такое, что горе принес.)
— По делу? Простите, я только с работы.
Входите, а то подгорают блины…—
Военный в погонах майора пехоты
с укором смотрел на меня со стены.
Два хлопца, скатившись с дивана большого,
насупились молча в углу у окна.
— Боюсь, что опять вы не та Иванова,
которая мне до зарезу нужна.
— Возможно.—
Она не потупила взора.
Стряхнула муку, оперлась о комод.
Напрасно вошел я в квартиру майора,
который сюда никогда не войдет.
Тревога мальчишек и женщина эта
мне все объяснили:
им некого ждать.
— Простите. Ошибка. Напутали где-то.
Мне нужно от друга привет передать.
Мальчишки стояли, насупившись, рядом,
и оба безмолвно, прижавшись к стене,
глядели мне вслед
непрощающим взглядом
за то, что я — жив,
а отец — на войне…
Клубились акации розовым паром,
свистели на сотни ладов соловьи.
По всем площадям,
переулкам,
бульварам
я бил невоенные туфли свои.
Во всех городских и приморских районах
встречал Ивановых — седых, молодых,
веселых и бойких,
ленивых и сонных,
замужних и вдовых,
цветущих,
худых.
В воскресные дни я старательно брился,
завязывал галстук, на поиски шел.
Я даже на свадьбу попасть умудрился
и был громогласно усажен за стол!..
Тощал календарь.
Пароходы гудели.
Несли малышей из родильных домов.
Весна разменяла цветы и недели,
утратила свежесть дождей и громов.
Сходились влюбленные к пушке над портом,
под стрелки бесстрастных висячих часов.
Мне сделалось горько…
В блокноте истертом
немного осталось уже адресов.
Пришел я на улицу Гоголя, восемь.
Красивая я^енщииа вышла ко мне.
Я к ней подошел с безнадежным вопросом.
И вдруг… пробежал холодок по спине.
— Входите,— сказала,— я знала такого.
Все верно. Действительно, я — Иванова.
Но вытрите туфли вот здесь, о ковер,
не то нанесете мне уличный сор…
Усажен я был на простой табуретке
у самых дверей — чтоб не портить паркет.
Меня обступили вокруг статуэтки,
сервизы, венчавшие темный буфет.
А золото… золото здесь, без утайки
холодную тусклость металла храня,
с буфета,
с подставок
и с пальцев хозяйки
жестоко глядело
в упор на меня.
И женщина в пестром халате японском,
как будто с рекламы, бела и кругла,
довольна квартирой и собственным лоском,
пропела, взглянув на себя в зеркала:
— Встречалась я с ним перед самой войною.
Девчонкой была я наивной, дурною.
Имел он по боксу какой-то разряд…
Но он-то, бедняжка, погиб, говорят?
Да что же такое? То явь или снится?!
Поднялся я, руку в кармане держа.
Взмахнули ее тушевые ресницы
и замерли снова, как иглы ежа.
Секунду стоял я, как судно в тумане.
Сдержал себя. Бить и ругаться не стал.
Нащупал подарок матроса в кармане
и стиснул суровый и теплый металл.
Нарочно ступил на зеркальность паркета,
как будто в ответ на ее хвастовство,
и думал:
«Не стоит ведь «золото» это
ни жизни его
и ни смерти его».
Провел по лицу я тяжелой рукою
и тихо сказал, отступая за дверь:
— Простите. Ошибка. Бывает такое.
Он жив и на должности высшей теперь.
Вы слышите? Жив Байдебура. Навечно!
Все время он будет смотреть вам в глаза.
И он заходить не просил к вам, конечно.
Мы просто попутали с ним адреса.
Шагал я по городу улицей новой,
нашедший и что-то утративший вдруг.
И словно опять: «Передай Ивановой!» —
шепнул мне сквозь годы
невидимый друг.
Не знаю, понравились просто черты ли
иль что-то иное меня привело,—
Садовая, десять, квартира четыре.
Я вновь постучался — всем правдам назло!
И сделалось сразу тепло и легко мне,
когда я увидел студентку мою.
— Простите… я снова… Я, знаете, вспомнил,
что с вашим Сергеем встречался в бою.
Лежал на шинели он строгий, суровый.
Склонился дружок над его головой.
«Вернешься с войны — передай Ивановой
на память медаль и привет мой живой…»
Хозяйка шагнула бесшумно, без скрипа,
лишь сомкнутых губ незаметная дрожь.
И только глаза говорили «спасибо»
за эту мою вдохновенную ложь…
Потом я бродил возле моря и хмуро
шептал, как итог
завершенных дорог:
— Ты слышишь, товарищ Степан Байдебура?
Я выполнил просьбу матроса
как мог.
Поют хлеба