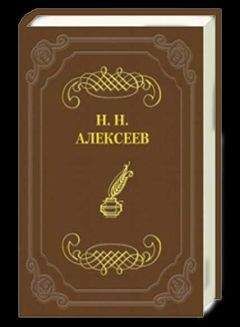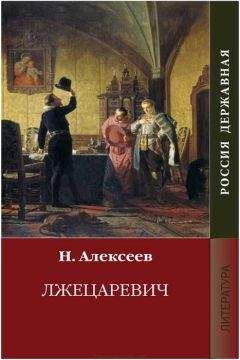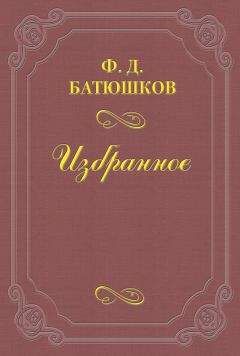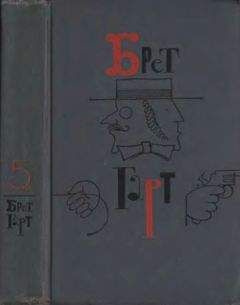Сергей Рафалович - Пленная Воля
Молитва девочки
Добрый, милый Боженька,
завтра дай мне встать
светлой и пригоженькой,
и помилуй мать.
Братика-касатика
взял ты в небеса:
подари за братика
козочку и пса.
Если небо хмурится,
не хожу гулять:
ах, позволь на улице
в дождик постоять,
и с дворовым мальчиком
в луже дождевой
покопаться пальчиком,
поиграть с водой.
Дай мне булку сладкую,
клейкий пирожок.
Отведи украдкою
ночью на лужок.
Там хочу со взрослыми
при луне бродить,
в лодке узкой веслами
по воде водить,
увидать русалочку,
лешего — в лесу
с бородой мочалочкой,
с шишкой на носу.
Отрасти мне волосы
черные, как смоль.
В юбке длинной в полосы
походить позволь.
Стану тотчас мамою,
деток заведу.
Сбрось мне с неба самую
яркую звезду.
Добрый, милый Боженька,
если буду пай,
укажи дороженьку
за реку, где рай.
«Я предал девственную Майю…»
Я предал девственную Майю,
чтоб в очи грешниц заглянуть,
и жизнью горькой искупаю
паденья сладостную жуть.
К тебе, навек недостижимой,
чей лик свободою зажжен,
стремлюсь, влюбленный и любимый,
в плену доступных дев и жен.
Так от измен иду к измене,
на блеск огня, сквозь едкий дым.
Но стоит всех земных мучений
блаженство знать себя живым.
Девочке
Из-под юбки приутюженной
панталончики видны.
Где ты, где ты, суженый?
Не прожди весны.
Быстро к годам год прибавится:
что не к счастью, то к беде,
и старухе здравица
не звучит нигде.
Рано девочке невеститься,
сиро в девках вековать.
В гроб один уместится,
двое — на кровать.
Не пора ль тебе, красавица,
чары девичьи познать?
Куклой позабавится
не дитя, а мать.
Обезьянья ложь
В светлом тереме — царица,
нежный лик румян.
И, дразня, ей строит лица
пара обезьян.
Знают все ее повадки,
каждый жест и взгляд.
На коленях, под лампадкой
так смешно стоят.
С уморительной ужимкой
морщат лоб и нос
и следят за синей дымкой
тонких папирос.
А когда ее лобзает
муж, от страсти пьян,
нежным ласкам подражает
пара обезьян.
Новый мир игрой творится,
лик с личиной схож.
И в душе таит царица
обезьянью ложь.
«Омут и трясина…»
Омут и трясина.
На лесной опушке
мэкает овца.
А в избушке
двое под периной,
на одной подушке
два лица.
Грязно и угарно,
сумрачно и потно,
ласки да пинки.
Лай навис над псарней,
и во мгле болотной
светят огоньки.
Вербная неделя,
в городе чухонцы,
в очаге — зола…
Не мели, Емеля,
не убавишь хмеля…
Сверху светит солнце,
кверху — купола…
«Не жалей о том, родная…»
Не жалей о том, родная,
что, сжигая жизнь дотла,
наша страсть, как мы, земная,
стать небесной не могла.
Дольний мир не призрак зыбкий
и не гладь пустых зеркал,
где, склонясь к твоей улыбке,
жарких уст я б не ласкал.
Ширь земная не темница,
и не узник темный крот.
Но не тщетно душам снится
Мир заоблачных высот.
Не гляди же исподлобья
и не верь слепым мечтам:
или в мире нет подобья,
иль подобье тут и там.
На челне, приладив снасти,
к звездам по морю плыви,
и в лучах бесскорбной страсти
скорбной радуйся любви.
«Белый снег под небом синим…»
Белый снег под небом синим,
там — огонь, а тут — огни.
И зажженный вместе с ними,
я сияю, как они.
Легок я, и чист, и светел,
как морозный, ясный день.
Кто у ног моих заметил
притаившуюся тень?
Но давно я с нею связан,
и давно к земле приник
то смешон, то безобразен
этот чуждый мне двойник.
Если б солнце не блестело,
если б сам я был иной,
тенью черной Лепорелло
не простерся бы за мной,
гул язвительного смеха
не скользил бы по земле,
и за мной бы не проехал
Санчо Панса на осле.
«Холоп иль царь, певец иль воин…»
Холоп иль царь, певец иль воин,
на склоне лет, в расцвете сил,
Господней милости достоин,
кто недостойную любил,
кто тем, чья прихоть жаждет чуда,
с землею предал небеса,
и путь от святости до блуда
прошел, не веря в чудеса,
кто сотворил земные были
и красоту не бывших стран,
кто ринул в даль автомобили
и в высоту — аэроплан,
и над мирами лик Мадонны
зажег во мгле пустых зеркал,
где легковерно соблазненный
свое горенье отражал.
Нищенка
Какая б ни была погода,
во мгле ночей иль в блеске дня,
все та же нищенка у входа
в мой дом безмолвно ждет меня.
В лохмотья смрадные одета
и в грязный кутаясь платок,
она бесчисленные лета
блюдет таинственный зарок.
И чуть касаясь шерсти клейкой,
в ее протянутую длань
кладу я медную копейку,
как данник, приносящий дань.
Того ли ждет она, таяся?
иль жаждой злою дух объят,
как зверь, что чует запах мяса
и крови пьяный аромат?
Но в час урочный и зловещий
она проникнет за порог,
раскрыв глаза, где сонно блещет
обет бессолнечных дорог.
Как вор уверенный и дерзкий,
во мгле ночной иль в блеске дня,
склонит ко мне свой облик мерзкий
и жизнь отымет у меня.
И не поймет в тот час последний,
добычу легкую тая,
что никогда копейки медной
не стоила вся жизнь моя.
«В окно бегущего вагона…»
В окно бегущего вагона
гляжу на встречный бег земли.
В ее разрыхленное лоно
еще посевы не легли.
Омыта вешними ручьями
и от стыда потупив взор,
она, как жены пред мужьями,
свой белый сбросила убор.
И обнажаясь не впервые,
уже предчувствует, что тут,
где пали стрелы золотые,
колосья желтые взойдут.
Пред голубой опочивальней
весь мир восторженно склонен.
И лишь меня на пир венчальный
не мчит грохочущий вагон.
«Хочу я знать, свободна ль ты, родная…»
Хочу я знать, свободна ль ты, родная,
безбрежная, бездонная земля,
простершая от края и до края
необозримые поля?
И если ты от смерти к воскресенью
единый путь проходишь каждый год, —
покорна ль ты свободному влеченью,
иль темный рок стремит тебя вперед?
Когда весной, пушистый мех стряхая
и тело жаркое бесстыдно обнажив,
ты страсти ждешь, вакханка молодая,
чужой ли прихотью подсказан твой порыв?
Тебя молю, тебе одной поверю:
раскрой мне тайну жизни и любви.
Мы подошли к незримому преддверью:
отдай мне ключ… иль имя назови.
Чтоб верным быть решению простому,
я должен знать, чьей правдой мы живем?
гореть ли мне, как солнцу золотому,
иль, как звезде, мерцать чужим огнем?
«Свои мечты я перерос…»