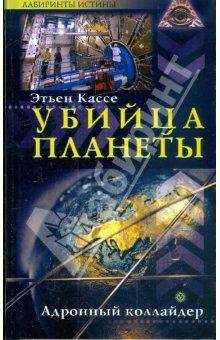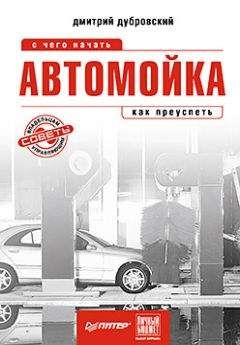Валентин Парнах - Испанские и португальские поэты - жертвы инквизиции
Долго после этого он не мог даже подписываться: ему вывихнули руку. Наконец его вывели в аутодафе, и в присутствии короля Жоана V, одетый в сан-бенито, он дал обещание никогда не выдавать тайн священного трибунала, после чего его объявили «примиренным с церковью» и освободили.
Через два года его мать перевели в тайные застенки, подвергли пытке на кобыле, потом объявили покаявшейся и выпустили на свободу.
II
Антонио Жозэ да Сильва быстро приобрел известность как автор пьес, прозванных публикой «операми еврея». Вернее, это были оперетты: в свои комедии в прозе автор ввел монологи в стихах, шансонетки, любовные сонеты, романсы, серенады, дуэты и речитативы. В этих комедийных сценах шутовские действующие лица говорили на уличном жаргоне, пели и плясали. Едкие диалоги чередовались с музыкальными интермедиями и шутовскими менуэтами. Сильва создал своего рода музыкальное зрелище.
Возможно, что в бразильских песенках (modinhas), которые он слышал в детстве, звучало очарование португальских saudades, песен сожаления, тоски и разлуки, в свое время повлиявших на яванскую музыку (остров Ява принадлежал португальцам).
В некоторых комедиях Сильва дает театральные вариации на темы из греческой мифологии. В область театра он перевел и жизнь Дон-Кихота. В других пьесах он высмеивает врачей, лжеученых, педантов, ломак, снобов. Он выводит на сцену любовные похождения короля Жоана. По догадкам некоторых ученых, кое-где он язвительно намекает на инквизиторов[135]. Как предполагают некоторые исследователи, в переведенном нами речитативе Амфитриона автор вспоминает свое пребывание в тюрьме и негодует против инквизиции. Нам бы хотелось, чтобы это было так, но скептический испанский филолог Менендес-и-Пелайо отвергает подобное предположение.
III
Публика рукоплескала «операм еврея», слава Антонио возрастала. Женатый на своей кузине Леоноре-Марии Карвальо, когда-то сидевшей в тюрьме вальядолидской инквизиции, он жил благополучно, когда внезапно, вместе с матерью и беременной женой, был опять арестован. По доносу их служанки, все трое были обвинены, конечно, в иудействе. Разлученный с семьей, в своем застенке Антонио ничего не знал о судьбе родных.
Между тем его новая пьеса «Гибель Фаэтона» с успехом шла в театре.
К своей жизни, разделенной между опереттой и тюрьмой, Антонио мог бы применить слова Бальзака[136]: «Левой ногой отбивал я ход музыки, а правой, казалось мне, стоял в гробу».
Вероятней всего, он не больше был привязан к еврейским обрядам, чем к христианским. Был ли он подозрителен инквизиции как сатирический писатель? Считался ли он богатым как адвокат и драматург? Или, как предполагают некоторые исследователи, ему и его жене мстил один португалец, отвергнутый Леонорой-Марией?
Сосед Антонио в тюрьме, мнимый товарищ по несчастью, был сыщиком, тайно служившим при священном трибунале: он неотступно следил за поэтом.
В тюрьме его жена разрешилась от бремени. Нам неизвестна судьба ребенка. Вероятно, отец ни разу не видел его.
В сущности, у инквизиции не было никаких улик против Антонио. Тем не менее после двухлетнего тюремного заключения его объявили еретиком, отступником, отрицающим, упорствующим, отлученным от церкви, а его жену — еретичкой, отступницей, отрицающей, упорствующей, нераскаявшейся и вновь впавшей в ересь.
Приговор держался в тайне в продолжение семи месяцев. Следовало выполнение целого ряда формальностей.
Затем инквизиторы выдали осужденного светской власти, с обычной просьбой поступить с ним милосердно и не подвергать его смертной казни.
Этой развязке Анастазио да Кунья[137], португальский ученый и поэт, посвятил следующие стихи:
Антонио Жозэ, веселый гений,
Ты первый в Португалии прошел
По лузитанской сцене мерным шагом.
Но лиссабонцы больше поддавались
Твоим забавным шуткам на театре,
Чем жалости к тебе на месте казней.
Что за позорный, что за страшный праздник
Готовит инквизиция тебе!
Наконец 19 октября 1739 года Антонио вывели на площадь, в аутодафе. Тридцатичетырехлетний драматург, прозванный «португальским Плавтом», был приговорен к смертной казни. Последняя милость: он был сначала удушен, потом сожжен.
В тот же вечер одна из его оперетт весело разыгрывалась в театре Байрро-Альто. Ей рукоплескали те же зрители, которые с неменьшим удовольствием присутствовали при казни автора.
IV
В XIX веке жизнь и смерть Антонио Жозэ да Сильва послужили португальскому писателю Камиллу Кастелло Бранко материалом для двухтомного романа «Еврей», а бразильскому поэту Гонсальво де Магальяншу[138] — для драмы «Поэт и инквизиция», исполнявшейся в Рио-де-Жанейро в 1838 году. Главным действующим лицом является Антонио. Его существование определено следующим стихом Магальянша: «Одной ногою в инквизиции, другою в жизни».
Какова же была судьба матери и жены Антонио?
Инквизиторы не преминули заставить их присутствовать при казни сына и мужа. Обе они были приговорены к «тюремному заключению по усмотрению» (cancere a arbitio), т. е. на неопределенный срок, зависевший от прихоти судей. Мать сошла с ума и умерла через несколько месяцев после казни сына. Жена, по-видимому, тоже погибла в тюрьме.
Комедии Сильвы — «Жизнь великого Дон-Кихота и толстого Санчо Панса»[139], «Критский лабиринт», «Амфитрион», «Войны Розмарина и Майорана», «Гибель Фаэтона» и другие — были собраны и напечатаны под заглавием «Португальский комический театр».
Под угрозой инквизиционной цензуры, они появились анонимно. Имя автора было скрыто в акростихе, обращенном к читателю.
После казни Сильвы один португальский епископ досадовал, что эти произведения не сожжены вместе с их автором.
Свои комедии Антонио Жозэ да Сильва насмешливо посвятил благороднейшей госпоже Серебрине Деньжищевой (Pecunia Argentina), перед которой лебезили благочестивые и правоверные современники «еретического» поэта.
ЖИВОЙ МЕРТВЕЦ[140]
О Тарамелла, я живой мертвец,
Ради тебя я мертвый и живой,
Но не подумай, что живу, живой,
Нет, хоть я жив, но я живой мертвец.
Твоей враждой я погребен, мертвец,
Улыбкою я воскрешен, живой.
Ты благосклонна, — я дышу, живой,
Ты неприступна, — стыну, как мертвец.
В этой борьбе, то мертвый, то живой,
Улыбкой к жизни вызван я, мертвец,
Враждою на смерть ранен я, живой.
Итак, я мертв и жив, живой мертвец.
Из пепла Фениксом встаю, живой,
Сгораю мотыльком в огне, мертвец.
Лабиринт любви (Из комедии «Критский лабиринт»[141])
Сей лабиринт без выхода и входа
В моей груди воздвигнут, как громада,
Любовью, созидательницей ада,
Где стоны множатся в отгулах свода.
На стенах памяти моя свобода
Начертана, как черная преграда.
В смешеньи мук потеряна отрада,
И счастья больше не вернет природа.
Строенье сей мыслительной машины
Украсили злой параллелью тени,
Глубины сна и ужаса вершины.
Колонны — строй бессонниц и мучений,
Бык[142] — ревность, нить — предчувствие кончины,
И статуя — символ разуверений.
Речитатив и ария Амфитриона Речитатив
Лукавая, нещадная звезда,
За что ты насылаешь черным светом
Беду на неповинного ни в чем?
Какое преступленье я содеял,
Чтобы терзаться в этих кандалах,
Среди угроз проклятого застенка,
Во мраке скорбном, в доме гробовом,
Где смерть живет и пребывает ужас?
О, если, беспощадная звезда,
Вина — быть невиновным, — я виновен,
Но, если нет вины в моей вине,
За что же у меня ты отнимаешь
Мою свободу, славу и любовь?
Ария
Какие пытки варваров
Так раздирают мне сердце?
Страна меня отвергает,
Любовь меня ненавидит,
И, кажется, само небо
На обреченного бедам
Глядит бесстрастным палачом.
О боги, если вы — боги,
Скажите мне, как же, за что же
Караете вы, тираны,
Не виноватого ни в чем?
Амфитрион или Юпитер и Алкмена[143] Акт I, сцена 3 НИ ЧЕЛОВЕК, НИ ТЕНЬ
При появлении Сарамаго выходит Меркурий под видом Сарамаго
Меркурий. Это — слуга Амфитриона! Надо помешать ему войти в дом. Эй, кто там?
Сарамаго. Кто? А вам какое дело? Я вхожу в мою дверь.
Меркурий. Дверь эта моя, и в нее никто не может войти, пока не скажет, кто он такой. Итак, либо пусть скажет, кто он такой, либо пусть убирается к черту. А не уберется, выброшу его в помойку.