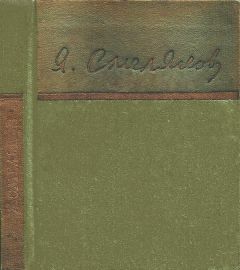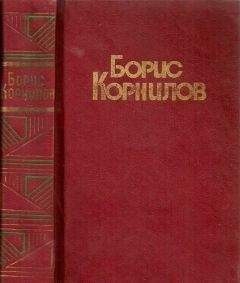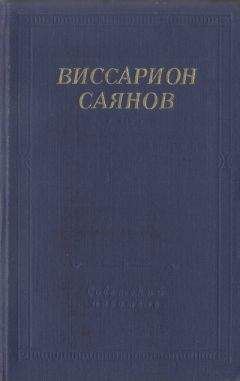Ярослав Смеляков - Стихотворения и поэмы
5. ПОСЕВНАЯ НОЧЬ В ТИПОГРАФИИ
Директор сказал: «Дело требует, двигай!
Нам дан заказ — посевная книга.
А дело важное — знаешь сам,
а срок — тридцать четыре часа».
Инструктор сказал: «Наступает весна
под галочьи крики, под всплески весла,
под ласки черемухи, зуд мандолины,
под искренность ветра,
под ветреность ливней.
Земля обварилась, набухла, вспотела,—
ну, словом, у нас посевное дело.
А дело важное — знаешь сам,
а срок — двадцать четыре часа».
Я бригадир. Я сказал: «Бригада!
Нам это заданье не тяжесть — награда.
К станкам становись, чтобы время летело.
У нас идет посевное дело.
А дело важное, ясно без слов,
а срок — семь с половиной часов…
Мне говорить о севе не надо:
вместе в клубе слыхали доклад и
вместе на этом докладе не спали
и резолюцию принимали…
А после такого, ребята, доклада
работать для сева по-новому надо.
У книжки тираж — три тысячи триста.
А это читатели-трактористы…»
И встала бригада, пять человек,
чтоб время летело упрямо, как бег,
чтоб время летело (не зря летело).
У нас идет посевное дело,
по цеху идет посевное дело,
и этому севу наш долг помочь.
Над цехом повисла громадная ночь,
над цехом, гремя, скрежеща и стеная,
громадой повисла ночь посевная.
А сверху —
трансмиссий надорванный свист.
Наборщику кажется — он тракторист,
и ветер весенний — в широкие спины,
и трактором рвутся к победе машины.
Чтоб выполнить план,
чтобы славить страну,
взрывая цементную целину,
чтоб утром в печатный:
«Набор готов!
На книгу потрачено семь часов!»
6. СТРАХ
Мальчишкой я был
незаметен и рус
и с детства привык
молчать.
Паршивая, бледная кличка
«Трус»
лежит на моих
плечах.
А плечи мои —
это детские плечи
класса, который
стоял у станков;
детства, которое
глохло, калечилось
десять,
двенадцать,
пятнадцать часов;
детства,
которому говорили:
«Парень, ты мал,
худосочен, плох.
Бойся!
Читай, несмышленыш,
Библию.
Бойся!
Сидит в облаков изобилии
страшный, как штык,
всекарающий бог.
Бойся!
Сияет матерь пречистая,
она не пропустит
грехи твои даром.
Бойся!
По крышам идут трубочисты.
Бойся!
Стоят на углах жандармы.
Бойся!»
И он врывался, страх.
Вы тоже такое помните.
И как это страшно —
сидеть впотьмах
в наполненной вечером
комнате.
Он раньше врывался,
раскрашенный страх,
истертою бабой-ягой:
он путался сукой
в моих ногах,
махал костяной
ногой.
Он раньше бродил,
неизвестный страх,
рядом с каждым
конем,
когда я в ночном
сидел у костра
в обнимку с худым
огнем.
И так через все
молодые года
я твердо пронес,
как груз,
я быстро пронес,
как заслуженный дар,
бездарную кличку
«Трус».
И так сквозь мой рост,
совсем молодой,
сквозь радость,
сквозь полночь,
сквозь мрак
я быстро пронес
непонятный,
немой,
почти первобытный
страх.
А только теперь
молодеет страна
с каждым идущим
днем.
Она наливается соком.
Она
нужнейшим горит
огнем.
Никто еще так
не решался петь.
Никто еще так
не жил.
Недаром гуляет
горячая нефть
по нефтепроводам жил.
Недаром враги
за кордоном двойным
скушны и как будто
тихи.
Они, ожидая
начала войны,
прилаживают штыки.
Их песни уже
до начала допеты,
до гнусной
передовой.
Петитом и корпусом
в их газетах
набран
собачий вой.
Ну что же — а мне
восемнадцать лет.
Я буду в военной
спецовке
идти и держать
в молодой руке
начищенную винтовку.
Ну что ж — я отдам
неумелый страх
за то, чтобы твердо
и ловко
держать в молодых,
как винтовка, руках
молоденькую винтовку.
Я выбросил в небо
неграмотный страх,
который мне в верности
клялся.
Я встану,
сжимая
в надежных руках
бесстрашие
нашего
класса.
7. СМЕРТЬ БРИГАДИРА
Вчера работал бригадир,
склонившись над станком.
Сегодня он лежит в гробу,
обитом кумачом.
А зубы сжаты. И глаза
закрыты навсегда.
И не раскроет их никто.
Нигде. И никогда.
И тяжело тебе лежать
в последней из квартир,
и нелегко тебе молчать,
товарищ бригадир.
Твой цех в молчанье понесет
тебя по мостовой.
В зеленый день в последний раз
пойдем мы за тобой.
Но это завтра. А пока,
молчанью вопреки,
от гула, сжатого в винтах,
качаются станки.
За типографии окном
шумит вечерний мир,
гудит и ходит без тебя,
товарищ бригадир.
Врывайся с маху в эту жизнь,
до полночи броди!
А ты не слышишь. Ты лежишь,
товарищ бригадир.
Недаром заходил в завком
сегодня плановик.
И станет за твоим станком
упрямый ученик.
Он перекрутит все винты,
все гайки развернет.
Но я ручаюсь, что станок
по-прежнему пойдет.
Ты жизнь свою не потерял,
гуляя и трубя.
Страна, машина и реал
запомнили тебя.
И ты недаром сорок лет
в цехах страны провел,
и ты недаром научил
работать комсомол.
Двенадцать парней. Молодежь.
Победа впереди.
Нет, ты не умер. Ты живешь,
товарищ бригадир.
Твоя работа и любовь
остались позади.
Но мы их дальше понесем,
товарищ бригадир.
Мы именем твоим свою
бригаду назовем.
Мы радостным путем побед
по всей земле пройдем.
Когда же подойдут года,
мы встретим смерть свою
под красным знаменем труда —
в цехах или в бою.
Но смотрят гордо города,
но вечер тих и рус.
И разве это смерть, когда
работает Союз?
Который — бой,
который — гром
за настоящий мир.
В котором мы с тобой живем,
товарищ бригадир.
8. ВОР
Бывают такие бессонные ночи:
лежишь на кровати — скрипит кровать,
и ветер, конечно не много, не очень,
но всё же пытается помешать.
И дождик, невзрачный, унылый и кроткий,
падает на перезревшие ветки,
и за фанерною перегородкой
вздыхает беременная соседка.
В такую-то полночь (верьте не верьте),
потупив явно стыдливый взор
и отстранив назойливый ветер,
в форточку лезет застенчивый вор.
Мне неудобно, мне даже стыдно.
Что он возьмет — черновики?
Где ж это, братцы читатели, видно,
чтоб похитители крали стихи?
Ему же надо большие узлы,
шубы, костюмы, салфетки и шторы.
Нет у меня ничего и, увы,
будет, наверно, не скоро.
Думаю я: ну ладно, что ж,
трудно бедняге — привычка.
В правой руке — настоящий нож,
в левой руке — отмычка.
Лезет в окно, а оно гремит
джаз-бандом на вечеринке.
Фонарь зажигает — фонарь не горит
(наверно, купил на рынке).
На стул натолкнулся, порвал штаны.
Конечно, ему незнакомо…
Зажег я свет и сказал: «Гражданин,
садитесь, будьте как дома.
Уж вы извините, что я не одет,
вы ведь не предупредили,
вы ж за последние двадцать лет
даже не заходили.
Быть может, не нравится вам разговор,
но я не о вашей вине ведь.
Оно, конечно, вы опытный вор,
вам это дело виднее.
Но вам неудобно на улице — дождь,
еще, чего доброго, схватите грипп».
И вор соглашается: «Нет, отчего ж,
давайте поговорим».
Потом я мочалил над примусом спички
(«Не разжигается, стерва!»),
а вор в это время своею отмычкой
пытался открыть консервы.
И только когда колбаса подгорела
и чайник устал нагибаться,
я бухнул: «Мне кажется, устарела
ваша квалификация.
Мне кажется (в этом уверен я),
что за столом не мы,
не просто два человека сидят,
а старый и новый мир.
Один этот — новый и нужный нам,
растущий из года в год.
Один этот — наш — выдвигает план
и выполняет его.
Один этот, — я даже захлебнулся
и ложечкой помахал, —
один этот бьется горячим пульсом
в каждой строке стиха.
В одном этом мы вырастаем и любим,
в одном этом парни отвагой горят.
Один этот вас называет „люмпен“
и добавляет „пролетариат“.
И вы, представитель другого мира,
попавший к строителям невзначай,
сидите в чужой коммунальной квартире
и пьете взращенный ударником чай,
едите из этих веселых тарелок,
готовых над вами смеяться.
Она действительно устарела,
ваша квалификация.
Вы мимо труда,
пятилетки мимо
ходите мокрою ночью,
и это когда нам необходимы
профессор и чернорабочий.
Ах, в чью стенгазету,
зачем и кому
вам написать, неодетому:
„Товарищ завком, оглянись, ау!
Охрана труда, где ты?“
И знаете что? Я придумал исход:
идите, пожалуй, хоть к нам на завод.
У вас накопилась какая-то ловкость,
научитесь быстро. И скоро
вы будете в новой просторной спецовке
стоять над гудящим мотором.
Вам в руки дадут профсоюзный билет,
вам премией будет рубашка,
и мы напечатаем ваш портрет
в нашей многотиражке.
Вы нам поможете, мы проведем
пятилетку в четыре года.
Вы в комнату эту войдете и днем
и даже с парадного входа».
Рассвет начинается. Лампа горит.
По небу плывут облака.
А вор улыбается и говорит:
«Спасибо, товарищ. Пока».
9. ЛЮБОВЬ