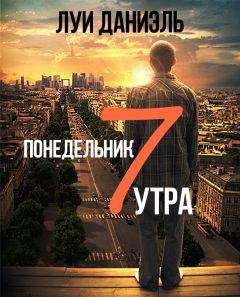Александр Амфитеатров - Отравленная совесть. Роман
По щекам Людмилы Александровны давно катились горькие слезы. С тех пор как она сознала себя беззащитною в руках Ревизанова, гнев на оскорбление исчез: его сменили стыд, страх и беспомощная обида.
— Сжальтесь надо мною! — прервала она Ревизанова, задушив рыдания. — Я с трудом сдерживаю себя; если вы продолжите свои объяснения, я кончу истерикой. Неужели это также входит в ваши расчеты?
Ревизанов встал:
— О, нет, никак! Я не смею задерживать вас. Но надо же выяснить наши отношения. Последний вопрос — отвечайте на него без лишних слов и оскорблений: согласны ли вы быть моею?
— Нет!
— Это окончательный ответ? Подумайте!
— Нет, нет и нет!
— Тогда выслушайте и мое последнее слово. Я даю вам неделю срока. Сегодня воскресенье, — если в следующую субботу я не увижу вас у себя, то ваши письма получат огласку.
Людмила Александровна взялась за голову: смертельная тоска схватила в клещи ее сердце…
— В какую пропасть я попала! — стонала она.
Ревизанов продолжал холодно и беспощадно:
— Сперва над этими письмами посмеется кружок веселой золотой молодежи, потом они дойдут до Степана Ильича. Хотя он и верует в вас, как в Бога, но вещественным доказательствам — вашим письмам, чувствительным надписям вашею рукою на фотографических карточках он тоже поверит. Пусть простит он вам ваш обман. Я знаю вашего мужа: он мягок, слишком мягок… Но вряд ли уверенность, что вы надругались над его именем, прежде чем получили право носить это имя, будет способствовать продолжению вашего супружеского счастья.
— Да, вы сильны, вы очень сильны, — шептала Верховская, бессмысленно смотря перед собою окаменелыми глазами, — я вас боюсь…
— Затем: у вас есть сын. Родился он в половине года, следующего за тем, как мы расстались столь драматически… Что, если я явлюсь с вашими письмами к вашему сыну и скажу ему: «Я твой отец»? Пусть я не докажу своих слов, но ведь и вам нечем опровергнуть мое обвинение до полной доказательности. Значит, сомнение-то я все-таки брошу в вашу семью: и отец, и сын должны будут одинаково прислушаться к моему голосу… Говорят, у вас в семье рай земной. Ну, тогда, конечно, раю конец: ад начнется! Ах, Людмила Александровна! остерегитесь! пожалейте мальчика! поверьте мне: словцо «незаконнорожденный» достаточно длинно, чтобы одним подозрением отравить человеку целую жизнь.
— Я вас боюсь, я вас боюсь… — шептала она.
— Так как же? — тихо спросил он, после долгого молчания.
Она смотрела, точно только что проснувшись.
— Не знаю я совсем сбилась с толку… право, не знаю, что вам отвечать…
— Я буду считать ваши слова за согласие, — холодно сказал Ревизанов.
— Нет! нет! — с ужасом воскликнула Верховская. — Ради Бога, нет… Я должна подумать… Не отнимайте у меня хоть этого права.
— Как угодно. Неделя срока — в вашем распоряжении. В субботу я буду ждать до двенадцати часов ночи. Карточку с моим адресом позвольте вам вручить… До свидания…
Он поклонился и вышел.
XIII
Если человеку завязать глаза, ввести его в темную комнату и, покрутив его вокруг себя за руки, потом снять с него повязку, он, хотя бы комната была его собственным кабинетом, теряет представление об ее пространстве и, думая идти к письменному столу, упирается в зеркало; воображая переступить порог, больно ушибает колено о книжный шкаф и т. п. Тьма одуряет его, сбивает с толку. В такую сбивчивую, полную ошибочных представлений и досадных призраков тьму поверг Людмилу Александровну разговор с Ревизановым. В уме ее быстрым потоком бежали мысли самозащиты, но все пугливые, неясные, спутанные, и на сердце лежал камень.
«Этот человек — точно колдун, — думала она с содроганием, — он вынул у меня что-то из головы, и все пошло в ней кругом, без порядка, без самоотчета…»
Главное, она никак не могла разобраться: насколько действительно и опасно обвинение, повисшее над ее головою. То казалось, что она совсем пропала, безвыходно и безнадежно, то — что и бояться нечего, и опасности никакой нет и не было, и угрозы Ревизанова — не более как дерзкое хвастовство нахального человека, рассчитанное на впечатлительные женские нервы.
«Я женщина, — соображала она, — Ревизанов запугал меня, — вот воображение и разгулялось, и пошло строить Бог весть какие мрачные воздушные замки, а на самом деле они — карточные домики!.. Чего бояться?.. Как искусно ни представит Ревизанов обществу свой гадкий план, он все-таки остается шантажом. Шантаж — орудие страшное, но обоюдоострое. Общественное презрение клеймит шантажиста еще глубже, чем его жертву. Есть ли расчет Ревизанову, в его блестящем, видном положении, замарать вместе с моим и свое имя? Ведь не думает же он, что — доведенная до позора и отчаяния, когда мне нечего будет терять — я все-таки пощажу его и не обличу в свою очередь в глазах света всей его подлости, всех его наглых вымогательств?!»
Во вторник Иаков Иосафович Ратисов справлял день своего рождения. Верховская чувствовала себя совсем нездоровою, однако надо было ехать к Ратисовым и встретиться у них с Ревизановым, — как знала Людмила Александровна, — приглашенным Олимпиадою Алексеевною к обеду.
«Непременно приедет! — злобно соображала Верховская. — Не пощадит… С тем и приедет, чтобы посмотреть, в каком я настроении, — вовсе покорена или еще сопротивляюсь?»
Ревизанов действительно обедал у Ратисовых и остался на вечер. Однако Людмила Александровна ошиблась: на этот раз он не хотел ее мучить — раскланялся и затем мало что не замечал ее весь вечер, но даже сам как будто уклонялся попадаться ей на глаза, старался как можно меньше утомлять собою ее внимание. У Ратисовых было очень шумно. Синев был в духе и все дразнил юношу — сына Людмилы Александровны. Митя переваливал из подростков в молодые люди, — и комическая смесь в этом хорошеньком мальчике детской наивности и уже мужских манер смешила до упаду Петра Дмитриевича и Олимпиаду Алексеевну, которую Митя втайне обожал, как только может обожать семнадцатилетний мальчик красивую родственницу бальзаковских лет.
— Знаешь ли, Митя, что я тебе, в некотором роде, бабушка? — изумлялась сама на себя Ратисова.
Синев комически запел:
— Жил-был у бабушки
Серенький козлик…
Остались у козлика
Рожки да ножки!
— К чему это ты?!
— К просвещению юношества, — трунил Синев, — надо же предостеречь молодого человека, что бывает с козликами, у которых есть такая бабушка!
Митя конфузился и краснел: юное воображение, давно уже и сильно занятое великолепною Олимпиадою, привело его в последние дни к тому трагикомическому переходному состоянию влюбленности, что знакомо только совсем зеленым мальчикам, — когда не знаешь: не то уж очень любишь женщину, не то терпеть ее не можешь, мечтаешь о ней и дичишься ее, видишь ее каждую ночь во сне, а наяву, завидев ее издали, переходишь на другую сторону улицы, чтобы только не раскланяться с нею… Синев видел состояние юноши и — по страсти к зубоскальству, которым был хронически одержим, — издевался над ним неистово, когда мог рассчитывать, что Людмила Александровна не услышит. Она не любила, если Митю дразнили вообще, а уж в особенности на любовные темы.
— Вбиваете Бог знает что в голову семнадцатилетнему мальчику! Ему рано и думать о таких пошлостях, — сердилась она. — Вам с Липою смешки, а он волнуется… Я вот перестану его пускать к Ратисовым! Я заметила: как он побывает у Липы — на другой день обязательно принесет двойку из гимназии… И, главное, кто бы дразнил!.. Сами-то вы, Петенька, давно ли обсушили молоко на губах? Я еще не забыла, как вы воровали у меня ленты на память… да и у Липы тоже!
— Было! — сокрушенно восклицал Синев и оставлял Митю в покое, до первого нового искушения.
Олимпиада Алексеевна была уже в том возрасте, когда подобное полудетское ухаживание особенно льстит и нравится.
— Тетушка, — шептал ей Синев, — Митяй смотрит на вас исподтишка. Ну-ка, поддайте ему жару!.. Метните парфянскую стрелу!..
— Ах, какой ты дурак! — смеялась Олимпиада Алексеевна, но тем не менее бросала на юношу такой томный взгляд, что Митя не знал, куда ему деваться, и искренно жалел, что паркет не разверзается под его ногами и не поглощает его, как оперного Демона.
А Синев хохотал:
— Тетушка! Вы не Олимпиада! Вы Иродиада!
— Это почему?
— Младенцев избивать стали!
— Да отстань же ты от меня! — кричал Митя на своего мучителя, доведенный до полного исступления. — Все твои выдумки и насмешки! Я и знать-то ее не хочу, и совсем она мне не нравится… Ты все врешь на меня! врешь! врешь! врешь!
Синев с невозмутимостью поучал:
— Во-первых, ты невежлив со своим добрым, старым дядею, — замечаешь ли ты это, о школьник? А во-вторых, врешь-то ты, а не я. Нас, брат, на мякине не проведешь: мы старые воробьи. И от судьбы своей также не уйдешь. И верь мне, как турка Магомету: никто другой, как Липа, и есть твоя Судьба. Вы, молокососы, самой природой устроены и предназначены для развлечения таких сорокалетних пожирательниц мужчин, в промежутке, когда у них день прошел, а вечер не наступил. Поэтому советую приготовиться к капитуляции: пиши в честь ее стихи, воруй ее ленты и носовые платки, выпроси на память прядь ее золотых… гм, гм! с серебрецом кудрей и прочая и прочая, и да будет над тобою благословение любящего тебя дяди!