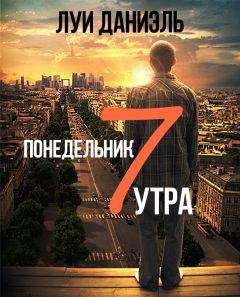Александр Амфитеатров - Отравленная совесть. Роман
Явилась Олимпиада Алексеевна и увела за собою всех к обществу. В зале были уже раскрыты карточные столы, но мужчины еще не спешили к ним, разгоряченные общим разговором.
— Как угодно, Андрей Яковлевич, — кричал Степан Ильич, — а все это софизмы!
— Как для кого, — возражал Ревизанов.
— Вы меня в свою веру не обратите.
— Я и не пытаюсь. Помилуйте.
— Больше того: я даже позволю себе думать, что это и не ваша вера.
— Напрасно. Почему же? — возражал Ревизанов со снисходительной улыбкой.
— Потому что вера без дел мертва, а у вас слова гораздо хуже ваших дел.
— Спасибо за лестное мнение.
— На словах вы мизантроп и властолюбец.
Ревизанов, в знак согласия, наклонил голову:
— Я действительно люблю власть и — в огромном большинстве — не уважаю людей.
— Однако вы постоянно делаете им добро?
— Людям? — как бы с удивлением воскликнул Ревизанов. — Нет!
— Как нет? Вы строите больницы, учреждаете училища, тратите десятки тысяч рублей на разные общеполезные заведения… Если это не добро, то что же по-вашему?
Ревизанов пожал плечами:
— Кто вам сказал, что я делаю все это для людей и что делаю с удовольствием?
— Но…
— Мало ли что приходится делать, чего не хочешь, чтобы получить за это право делать, что хочешь! Жизнь взяток требует. Только и всего. Теория теорией, а практика практикой.
— Вы клевещете на себя, Андрей Яковлевич! — сказал Верховский, дружески хлопая Ревизанова по плечу. — Вы делаете добро инстинктивно. Вы хотите, сами того не сознавая, отслужить свой долг пред обществом, которое вас возвысило…
Ревизанов двинул бровями, как бы смеясь над легковерием собеседника и в то же время жалея его.
— Долг!.. отслужить!..
— Вы смеетесь? — слегка краснея, изумился Верховский.
— О, нет. Над чем же тут смеяться? Я только нахожу эти слова неестественными. Зачем человек будет служить обществу, если он в состоянии заставить общество служить на себя? К чему обязываться чувством долга, имея достаточно смелости, чтобы покоряться лишь голосу своей господствующей страсти, и достаточно силы, чтобы исполнять волю этого голоса?
Наступила минута молчания. Степан Ильич бормотал что-то, смущенно разводя руками.
— Сколько вам лет, Андрей Яковлевич? — простите нескромный вопрос! — спросил он наконец.
— Сорок четыре.
— Странно! Мне пятьдесят шесть; разница не так уж велика. Я ближе к вам по годам, чем вон та молодежь… мой Митя, даже Петя Синев… а — извините меня! — не понимаю вас: мы словно говорим на разных языках.
— Да так оно и есть. Я говорю на языке природы, а вы на языке культуры. Вы толкуете о господстве долга, а я — о господстве страсти. Вы стоите на исторической, условной точке зрения, а я — на зоологической, абсолютной истине. Вам нравится, чтобы ваша личность исчезла в обществе, чтобы ваша частная воля покорялась воле общественной; я же измышляю всякие средства и напрягаю все свои силы, чтобы, наоборот, поставить свою волю выше общей.
— Вот как! — отозвался Синев из дальнего угла, откуда он, вместе с Людмилою Александровною и Сердецким, прислушивался к спору.
— Вы что-то сказали?
Ревизанов вежливо обратился в его сторону. Синев подошел ближе:
— Простите, пожалуйста, но вы мне напомнили… впрочем, неудобно рассказывать: не совсем ловкое сближение…
— Не стесняйтесь! — Ревизанов сделал бровью чуть уловимое движение надменного безразличия, которое взбесило Синева.
— Я слышал, — очень зло сказал Петр Дмитриевич, — вашу фразу на допросе одного интеллигентного… убийцы. Мы философствовали немножко, и он, между прочим, тоже определял преступление, как попытку выделить свою личную волю из воли общей, поставить свое «я» выше общества.
Ревизанов одобрительно кивнул:
— Да, в сознательном преступлении, несомненно, есть этот оттенок.
— И преступление — обычная дорога к вашему излюбленному царству страсти! — горячо воскликнул Верховский.
Ревизанов равнодушно пожал плечами:
— Бывает.
— Хорошая дорога, скажете?
— По крайней мере, хоть куда-нибудь приводит.
— Да всякая дорога ведет куда-нибудь!
— Ну нет. Перейти, например, с тропинки на проселок, а с проселка на большак — еще не значит прийти куда-нибудь… Вы пришли — когда вы на месте, куда шли; раньше вы только бродите.
— Знаете ли, Андрей Яковлевич, — перебил его Синев, — ваша теория — золотая для Жаков Лантье, Карамазовых…
Ревизанов опять, в знак согласия, склонил голову.
— И Наполеонов, — спокойно добавил он.
— Ого! — вырвалось у молчавшего до тех пор Сердецкого.
Все попримолкли.
— Помилуйте! — даже каким-то плачущим звуком возвысил голос Степан Ильич. — Такая компания пожрет друг друга!
Ревизанов рассмеялся откровенным смехом мистификатора, которому надоело морочить свою публику:
— Так что же? горе побежденным.
XI
Провожая Ревизанова до подъезда, Степан Ильич хвалился:
— Теперь вы к нам зачастите. У нас уж дом такой: кто узнал к нам дорожку, наш будет.
Однако пророчество его не оправдалось. Правда, Ревизанов, на другой же день после обеда у Верховских, сделал визиты, т. е. забросил карточки и Людмиле Александровне, и Ратисовой, но заехал к обеим в такое раннее время, что — видимое дело — рассчитывал не быть принятым. А затем недели три о нем не было и помину.
Он объявился к Людмиле Александровне в одно «после завтрака», прямо с какого-то заседания, где, как сейчас же похвалился, одержал крупную победу. Победа была, должно быть, действительно очень крупная, потому что Ревизанов был заметно возбужден, и в синих глазах его еще не угасли огоньки, зажженные удовольствием борьбы и злорадством успеха. Он был и зол, и весел, и очень красив. Холеное лицо его разгорелось, ноздри вздувались…
— Простите, что я приехал к вам немножко сумасшедший, — воскликнул он, входя, — но это было презанимательно… я спорил и увлекался, как мальчишка…
Людмила Александровна оставалась дома совершенно одна. Дети были в гимназиях, Степан Ильич — в банке. Когда звякнул звонок, Верховской и в голову не пришло, что это Ревизанов, и она разрешила принимать… Увидав, какого гостя послала ей судьба для разговора tête-a-tête [15], Людмила Александровна растерялась. Она сидела пред Ревизановым как в воду опущенная, упорно смотрела на ковер и почти не находила ему ответов. Ревизанов сидел недолго. Прощаясь, он, как бы в рассеянности, задержал руку Верховской в своей руке и посмотрел ей в глаза странным взором… Людмила Александровна почувствовала, что кровь бросилась ей в голову. Оставшись одна, она поспешила к зеркалу. Стекло показало ей лицо, сплошь залитое румянцем…
— Какой нахал! — шептала она, покрывая пудрою разгоревшиеся щеки.
Опять звякнул звонок. Людмила Александровна поспешила в гостиную навстречу новому гостю — и широко открыла глаза от изумления и негодования: пред нею стоял только что уехавший и Бог весть зачем возвратившийся Ревизанов. Он не дал хозяйке высказать свое удивление.
— Простите, Людмила Александровна, — озабоченно и быстро заговорил он, — я прихожу вторично надоедать вам… Но — изволите ли видеть — сейчас на улице я сообразил, что в другой раз вряд ли мне выпадет такой счастливый случай говорить с вами наедине, как сегодня. А поговорить нам решительно необходимо. Э! думаю — была не была! пойду напролом…
— О чем нам говорить? — пробормотала смущенная Верховская. — Я, право, не понимаю… Между нами нет ничего общего.
— Вы позволите мне сесть? — перебил Ревизанов.
— Разве разговор будет длинный? — возразила Людмила Александровна.
— Глядя по обстоятельствам, — невозмутимо сказал Ревизанов. — Нет ничего общего, — начал он, — вы правы, может быть; по крайней мере, правы за себя… Но ведь было же общее, Людмила Александровна, — было! против этого вы спорить не станете… Нет, нет! не вставайте с места и не делайте жестов негодования: выгнать меня вы всегда успеете, — так сперва выслушайте, а потом уже гоните… Ей-Богу, так будет лучше — для вас же. Да — когда будет надо — я и сам уйду. Вы позволите мне курить?
— Если вам непременно нужно какое-то дикое объяснение, — гневно сказала Верховская, — то, по крайней мере, нельзя ли поскорее к делу?
Ревизанов покачал головой.
— Как вы спешите! какой резкий тон! — заметил он с любезною улыбкою. — Знаете ли, это даже нехорошо в отношении старого приятеля. Тем более, что приятель приходит к вам с самыми дружескими чувствами, полный искреннейшего расположения и раскаяния.
Людмила Александровна презрительно усмехнулась:
— К чему слова? Мы старые приятели? Ваше расположение? ваше раскаяние? Смешно слушать!
— Почему же? — спросил Ревизанов, сделав удивленные глаза.