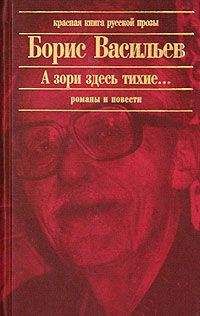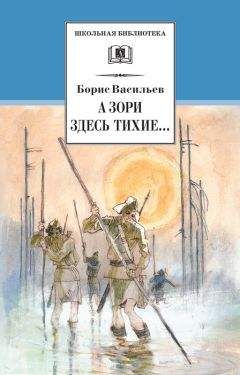Борис Чичибабин - Прямая речь (сборник)
Когда мы были в Яд-Вашеме
А.Вернику
Мы были там – и слава Богу,
что нам открылась понемногу
вселенной горькая душа —
то ниспадая, то взлетая,
земля трагически-святая
у Средиземного ковша.
И мы ковшом тем причастились,
и я, как некий нечестивец,
в те волны горб свой погружал,
и тут же, невысокопарны,
грузнели финиками пальмы
и рос на клумбах цветожар…
Но люди мы неделовые,
не задержались в Тель-Авиве,
пошли мотаться налегке,
и сразу в мареве и блеске
заговорила по-библейски
земля на ихнем языке.
Она была седой и рыжей,
и небо к нам склонялось ближе,
чем где-нибудь в краях иных,
и уводило нас подальше
от мерзословия и фальши,
от патриотов и ханыг.
Все каменистей, все безводней
в ладони щурилась Господней
земля пустынь, земля святынь.
От наших глаз неотдалима
холмистость Иерусалима
и огнедышащая синь.
А в сини той, белы как чайки,
домов расставленные чарки
с любовью потчуют друзей.
И встал, воздевши к небу руки,
музей скорбей еврейских – муки
нечеловеческой музей.
Прошли врата – и вот внутри мы,
и смотрим в страшные витрины
с предсмертным ужасом в очах,
как, с пеньем Тор мешая бред свой,
шло европейское еврейство
на гибель в ямах и печах.
Войдя в музей тот, в Яд-Вашем, я,
прервавши с миром отношенья,
не обвиняю темный век —
с немой молитвой жду отплаты,
ответственный и виноватый,
как перед Богом человек.
Вот что я думал в Яд-Вашеме:
я – русский помыслами всеми,
крещеньем, речью и душой,
но русской Музе не в убыток,
что я скорблю о всех убитых,
всему живому не чужой.
Есть у людей тела и души,
и есть у душ глаза и уши,
чтоб слышать весть из Божьих уст.
Когда мы были в Яд-Вашеме,
мы видели глазами теми,
что там с народом Иисус.
Мы точным знанием владеем,
что Он родился иудеем,
и это надо понимать.
От жар дневных ища прохлады,
над ним еврейские обряды
творила любящая Мать.
Мы это видели воочью
и не забудем днем и ночью
на тропах зримого Христа,
как шел Он с верными своими
Отца единого во имя
вплоть до Голгофского креста.
Я сердцем всем прирос к земле той,
сердцами мертвых разогретой,
а если спросите: «Зачем?» —
отвечу, с ближними не споря:
на свете нет чужого горя,
душа любая – Яд-Вашем.
Мы были там, и слава Богу,
что мы прошли по солнцепеку
земли, чье слово не мертво,
где сестры – братья Иисуса
Его любовию спасутся,
хоть и не веруют в Него.
Я, русский кровью и корнями,
живущий без гроша в кармане,
страной еврейской покорен —
родными смутами снедаем,
я и ее коснулся таин
и верен ей до похорон.
1992
«Оснежись, голова!..»
Кириллу Ковальджи
Оснежись, голова!
Черт-те что в мировом чертеже!
Если жизнь такова,
что дышать уже нечем душе
и втемяшилась тьма болевая,
помоги мне, судьба,
та, что сам для себя отковал,
чтоб у жаркого лба
не звенел византийский комар,
костяным холодком повевая.
Что написано – стер,
что стряслось – невозможно назвать.
В суматоху и сор,
на кривой и немытый асфальт
я попал, как чудак из романа,
и живу, как дано,
никого за печаль не виня.
Нищим стал я давно,
нынче снова беда у меня —
Лиля руку в запястье сломала.
Жаль незрячих щенят,
одурели в сиротстве совсем:
знай, свой закут чернят, издеваясь,
как черти, над всем, —
мы ж, как люди, что любим, то белим.
За стихов канитель
современник не даст ни гроша.
Есть в Крыму Коктебель,
там была наша жизнь хороша —
сном развеялся Крым с Коктебелем.
В городах этажи
взгромоздил над людьми идиот.
Где ж то детство души,
что, казалось, вовек не пройдет?
Где ж то слово, что было в начале?
Чтоб не биться в сети,
что наплел за искусом искус,
суждено ль нам взойти
в обиталище утренних муз,
добывающих свет из печали?
Есть в Крыму Коктебель,
в Коктебеле – Волошинский дом,
и опять, как теперь,
мы к нему на веранду придем,
до конца свой клубок размотавши, —
там органно звуча,
в нас духовная радость цвела,
там сиял, как свеча,
виноград посредине стола
и звенела походка Наташи.
1992
«Мы с тобой проснулись дома…»
Мы с тобой проснулись дома.
Где-то лес качает кроной.
Без движенья, без желанья
мы лежим, обнажены.
То ли ласковая дрема,
то ли зов молитвоклонный,
то ли нежное касанье
невесомой тишины.
Уплывают сновиденья,
брезжут светы, брызжут звуки,
добрый мир гудит, как улей,
наполняясь бытием,
и, как до грехопаденья,
нет ни смерти, ни разлуки —
мы проснулись, как уснули,
на диванчике вдвоем.
Льются капельки на землю,
пьют воробышки из лужи,
вяжет свежесть в бездне синей
золотые кружева.
Я, не вслушиваясь, внемлю:
на рассвете наши души
вырастают безусильно,
как деревья и трава.
То ли небо, то ли море
нас качают, обнимая,
обвенчав благословеньем
высоты и глубины.
Мы звучим в безмолвном хоре,
как мелодия немая,
заворожены мгновеньем,
друг во друга влюблены.
В нескончаемое утро
мы плывем на лодке утлой,
и хранит нас голубое,
оттого что ты со мной,
и, ложась зарей на лица,
возникает и творится
созидаемый любовью
мир небесный и земной.
1989
«Взрослым так и не став…»
Взрослым так и не став,
покажусь-ка я белой вороной.
Если строить свой храм,
так уж, ведомо, не на крови.
С той поры как живу
на земле неодухотворенной,
я на ней прохожу одиночную школу любви.
Там я радость познал,
но бывала и смертная боль же,
и отвечу ль в свой час на таинственный
вызов Отца?
В этой школе, поди, классов сто,
а возможно, и больше,
но последнего нет,
как у вечности нету конца…
С Украины в Россию уже не пробраться
без пошлин —
еле душу унес из враждой озабоченных лап.
Кабы каждый из нас был подобьем
и образом Божьим,
то и вся наша жизнь этой радостной
школой была б.
Если было бы так! Но какие ж мы
Божьи подобья?
То ли Он подменен, то ль и думать
о нем не хотим.
Взрослым так и не став, я смотрю
на людей исподлобья:
видно, в школу любви ни единый
из них не ходил.
Обучение в ней не прошло без утрат
и падений,
без отчаянных вин, без стыда
и без совести кар:
знает только Отец, сколько я отвечал
не по теме,
сколько раз, малодушный, с уроков
на волю тикал.
Но лишь ею одной, что когда-то
божественной мнили,
для чьего торжества нет нигде ни границ,
ни гробниц,
нет, спасется не мир, но спасется
единственный в мире,
а ведь род-то людской и слагается
из единиц.
Ну и что за беда, если голос мой в мире
не звонок?
Взрослым так и не стал. Чем кажусь тебе,
тем и зови.
Вижу Божию высь. Там живут Иисус
и ягненок.
Дай мне помощь и свет, всемогущая
школа любви.
1992
«Исповедным стихом не украшен…»
Исповедным стихом не украшен,
никому я не враг, не злодей.
За Кавказским отторженным кряжем
каждый день убивают людей.
Вся-то жизнь наша в смуте и страхе
и, военным железом звеня,
не в Абхазии, так в Карабахе
каждый день убивают меня.
Убивают людей, не считая,
и в приевшейся гонке годов
не держу перед злобой щита я
и давно уже к смерти готов.
Видно, без толку водит нас бес-то
в завирюхе безжизненных лет.
Никуда я не трогался с места —
дом остался, а родины нет.
Ни стихов там не слышно, ни мессы,
только митинга вечного гам,
и кружат нас мошнастые бесы
по истории бывшей кругам.
Из души нашей выжата воля,
к вечным книгам пропал интерес,
и кричу и не вижу того я,
кому нужен мой стих позарез.
И в зверином оскале и вое
мы уже не Христова родня,
и кричу и не вижу того я,
кто хотел бы услышать меня.
Не мои – ни пространство, ни время,
ни с обугленной вестью тетрадь.
Не под силу мне бренности бремя,
но от бесов грешно умирать.
Быть не может земля без пророка.
Дай же сил мне, – Кого-то молю, —
чтоб не смог я покинуть до срока
обреченную землю мою.
1994