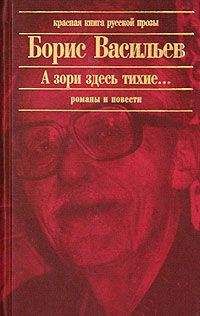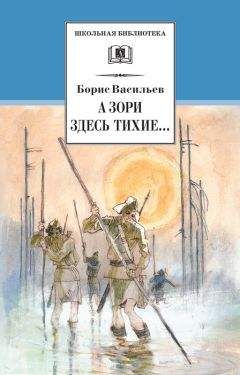Борис Чичибабин - Прямая речь (сборник)
1977
Ода воробью
Пока меня не сбили с толку,
презревши внешность, хвор и пьян,
питаю нежность к воробьям
за утреннюю свиристелку.
Здоров, приятель! Чик-чирик!
Мне так приятен птичий лик.
Я сам, подобно воробью,
в зиме немилой охолонув,
зерно мечты клюю с балконов,
с прогретых кровель волю пью
и бьюсь на крылышках об воздух
во славу братиков безгнездых.
Стыжусь восторгов субъективных
от лебедей, от голубей.
Мне мил пройдоха воробей,
пророков юркий собутыльник,
посадкам враг, палаткам друг, —
и прыгает на лапках двух.
Где холод бел, где лагерь был,
где застят крыльями засовы
орлы-стервятники да совы,
разобранные на гербы, —
а он и там себе с морозца
попрыгивает да смеется.
Шуми под окнами, зануда,
зови прохожих на концерт!..
А между тем не так он сер,
как это кажется кому-то,
когда из лужицы хлебнув,
к заре закидывает клюв.
На нем увидит, кто не слеп,
наряд изысканных расцветок.
Он солнце склевывает с веток,
с отшельниками делит хлеб
и, оставаясь шельма шельмой,
дарит нас радостью душевной.
А мы бродяги, мы пираты, —
и в нас воробышек шалит,
но служба души тяжелит,
и плохо то, что не пернаты.
Тоска жива, о воробьи,
кто скажет вам слова любви?
Кто сложит оду воробьям,
галдящим под любым окошком,
безродным псам, бездомным кошкам,
ромашкам пустырей и ям?
Поэты вымерли, как туры, —
и больше нет литературы.
1977
«Редко видимся мы, Ладензоны…»
Б. Я. Ладензону
Редко видимся мы, Ладензоны, —
да простит нас за это Аллах, —
отрешенные, как робинзоны,
на тверезых своих островах.
Или дух наш не юн и не вечен,
или в мыслях не стало добра,
что сегодня делиться нам нечем,
как, бывало, делились вчера?
Я не верю в худые заклятья,
не хочу ни затворов, ни стен,
только не размыкайтесь, объятья,
только б не расставаться ни с кем.
И приду еще я, и разуюсь,
и, из дружеской чаши поим,
вновь покоем твоим залюбуюсь
и порадуюсь шуткам твоим.
Наши дни холодны и туманны,
наша кривда нависла тузом.
Не хватило мне брата у мамы.
Будь мне братом, Борис Ладензон.
Назови это вздором и чушью,
только я никогда не пойму,
где предел твоему добродушью,
где он юмору, где он уму,
где он той доброте некрикливой,
что от роду тиха и проста
и венчается русской крапивой
вместо терний Иисуса Христа.
И хоть стали нечастыми встречи,
и хоть мы ни на Вы, ни на ты,
эти встречи – как Божии свечи
в черноте мировой темноты.
Трижды слава таинственной воле,
что добра она к русской земле,
что не в сытости мы и не в холе,
а всего лишь во лжи да во зле.
Век наш короток, мир наш похабен,
с ними рядом брести не резон.
Я один на земле Чичибабин.
Будь мне братом, Борис Ладензон.
1977
«Покамест есть охота…»
Покамест есть охота,
покуда есть друзья,
давайте делать что-то,
иначе жить нельзя.
Ни смысла и ни лада,
и дни как решето, —
и что-то делать надо,
хоть неизвестно что.
Ведь срок летуч и краток,
вся жизнь – в одной горсти, —
так надобно ж в порядок
хоть душу привести.
Давайте что-то делать,
чтоб духу не пропасть,
чтоб не глумилась челядь
и не кичилась власть.
Никто из нас не рыцарь,
не праведник челом,
но можно ли мириться
с неправдою и злом?
Давайте делать что-то
и, черт нас подери,
поставим Дон Кихота
уму в поводыри.
Пусть наша плоть недужна
и безысходна тьма,
но что-то делать нужно,
чтоб не сойти с ума.
Уже и то отрада
у запертых ворот,
что все, чего не надо,
известно наперед.
Решай скорее, кто ты,
на чьей ты стороне, —
обрыдли анекдоты
с похмельем наравне.
Давайте что-то делать,
опомнимся потом, —
стихи мои и те вот
об этом об одном.
За Божий свет в ответе
мы все вину несем.
Неужто все на свете
окончится на сем?
Давайте ж делать то, что
Господь душе велел,
чтоб ей не стало тошно
от наших горьких дел!
1979
«Благодарствую, други мои…»
Благодарствую, други мои,
за правдивые лица.
Пусть, светла от взаимной любви,
наша подлинность длится.
Будьте вечно такие, как есть, —
не борцы, не пророки,
просто люди, за совесть и честь
отсидевшие сроки…
Одного я всем сердцем боюсь,
как пугаются дети,
что одно скажет правнукам Русь:
как не надо на свете.
Видно, вправду такие чаи,
уголовное время,
что все близкие люди мои —
поголовно евреи…
За молчанье разрозненных дней,
за жестокие версты
обнимите меня посильней,
мои братья и сестры.
Но и все же не дай вам Господь
уезжать из России.
Нам и надо лишь соли щепоть
на хлеба городские.
Нам и надо лишь судеб родство,
понимание взгляда.
А для бренных телес ничего
нам вовеки не надо.
Вместе будет нам в худшие дни
не темно и не тяжко.
Вы одни мне заместо родни,
павлопольская бражка.
Как бы ни были встречи тихи,
скоротечны мгновенья,
я еще напишу вам стихи
о святом нетерпенье.
Я еще позову вас в бои,
только были бы вместе.
Благодарствую, други мои,
за приверженность чести.
Нашей жажде все чаши малы,
все, что есть, вроде чуши.
Благодарствую, други мои,
за правдивые души.
1978
«Я почуял беду и проснулся от горя…»
Я почуял беду и проснулся от горя
и смуты,
и заплакал о тех, перед кем
в неизвестном долгу, —
и не знаю, как быть, и как годы проходят
минуты…
Ах, родные, родные, ну чем я вам всем
помогу?
Хоть бы чуда занять у певучих
и влюбчивых клавиш,
но не помнит уроков дурная моя голова,
а слова – мы ж не дети, – словами беды
не убавишь,
больше тысячи лет, как не Бог нам
диктует слова.
О как мучает мозг бытия неразумного
скрежет,
как смертельно сосет пустота
вседержавных высот.
Век растленен и зол. И ничто на земле
не утешит.
Бог не дрогнет на зов. И ничто в небесах
не спасет.
И меня обижали – безвинно, взахлеб,
не однажды,
и в моем черепке всем скорбям чернота
возжена,
но дано вместо счастья мученье
таинственной жажды,
и прозренье берез, и склоненных
небес тишина.
И спасибо животным, деревьям, цветам
и колосьям,
и смиренному Баху, чтоб нам через
терньи за ним, —
и прощенье врагам, не затем,
чтобы сладко спалось им,
а чтоб стать хоть на миг нам свободней
и легче самим.
Еще могут сто раз на позор и на ужас
обречь нас,
но, чтоб крохотный светик в потемках
сердец не потух,
нам дает свой венок – ничего
не поделаешь – Вечность
и все дальше ведет – ничего
не поделаешь – Дух.
1978
1982–1984
Второй псалом Армении
Армения, – руша камения с гор
знамением скорбных начал, —
прости мне, что я о тебе до сих пор
еще ничего не сказал.
Армения, горе твое от ума,
ты – боли еврейской двойник, —
я сдуну с тебя облака и туман,
я пил из фонтанов твоих.
Ты храмы рубила в горах без дорог
и, радуясь вышним дарам,
соседям лихим не в укор, а в урок
воздвигла Матенадаран.
Я был на Севане, я видел Гарни,
я ставил в Гегарде свечу, —
Армения, Бог твою душу храни,
я быть твоим сыном хочу.
Я в жизни и в муке твой путь повторю, —
и так ли вина уж тяжка,
что я не привел к твоему алтарю
ни агнушка, ни петушка?
Мужайся, мой разум, и, дух, уносись
туда, где, в сиянье таим,
как будто из света отлитый Масис
царит перед взором моим!
Но как я скажу про возлюбленный ад,
начала свяжу и концы?
Раскроется ль в каменном звоне цикад
молитвенник Нарекаци?
До речи ли тут, о веков череда?
Ты кровью небес не дразни,
но дай мне заплакать, чтоб мир зарыдал
о мраке турецкой резни.
Меж воронов черных я счастлив, что бел,
что мучусь юдолью земной,
что лучшее слово мое о тебе
еще остается за мной.
1982
«Ежевечерне я в своей молитве…»
Ежевечерне я в своей молитве
вверяю Богу душу и не знаю,
проснусь с утра или ее на лифте
опустят в ад или поднимут к раю.
Последнее совсем невероятно:
я весь из фраз и верю больше фразам,
чем бытию, мои грехи и пятна
видны и невооруженным глазом.
Я все приму, на солнышке оттаяв,
нет ни одной обиды незабытой;
но Судный час, о чем смолчал Бердяев,
встречать с виной страшнее, чем с обидой.
Как больно стать навеки виноватым,
неискупимо и невозмещенно,
перед сестрою или перед братом, —
к ним не дойдет и стон из бездны черной.
И все ж клянусь, что вся отвага Данта
в часы тоски, прильнувшей к изголовью,
не так надежна и не благодатна,
как свет вины, усиленный любовью.
Все вглубь и ввысь! А не дойду до цели —
на то и жизнь, на то и воля Божья.
Мне это все открылось в Коктебеле
под шорох волн у черного подножья.
1984