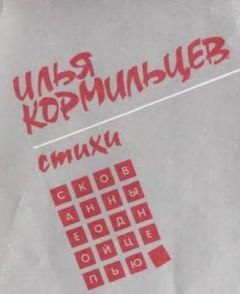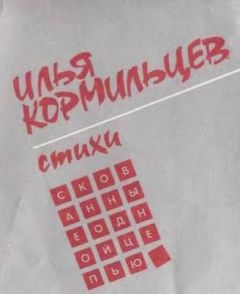Яна Джин - Неприкаянность
Пер. Нодар Джин
РАЗДЕЛЕНИЕ
Печаль?
Скорей — прозрение несёт мне разделение.
А время… Люди лгут, что время лечит.
Скорей — калечит:
вышибает глаз копытом, —
нехваткой лжи, которая забыта,
избытком истины, которая груба…
И — в ужасе скорёжена губа.
Когда о нас я вспомню, — «всё же»
куда-то сразу исчезает.
А в горле бес стучит — похоже,
наружу просится. И истязает.
Скорей — мы вместе на блядей
похожи были: наше рвение
пустое править и парить — презрения
достойно.
Я и рада разделению.
Ты — тот, чья суть заполнена тобой —
не мог смириться с сутью голубой
окраски. Той, что всюду стелется,
не собирается, не делится.
Не мог ты разглядеть и почвы мёртвой под ногами —
и грязью потекла она, покрытая снегами.
И всё же, всё же — я молюсь, чтобы болей
тебе не ведать.
И чтобы страх не одолел
тебя, и — беды.
Хоть непорочность и моей душе чужда:
в мучениях спасается всегда.
Но если мне подходят те упрёки,
что я жестока и слова мои жестоки,
поскольку мщу, как мстят сентиментальные
и чокнутые рифмоплёты, — и так далее…
На это нечем отвечать помимо
того, что, хоть и уязвима
душа моя, мой мозг не даст забыть:
поэзия — не средство быть
глупицей, бормоча слова сусальные.
А что касается догадки, что душа,
хоть уязвима, но непостоянна,
как кувыркающийся мозг внутри Ивана
тряпичного, — догадка эта и гроша
не стоит. Нет: она, моя душа,
давно отяжелела, словно шар
внутри того порожнего болвана.
Глаза мои налились пустотой
от созерцания сплошных дождей, мертвящих
любые краски кроме серой, — той,
что облекла меня тоскою полой, вящей,
непреходящей, не переходящей
ни в боль, ни в горе, ни в печаль.
Лишь — в разделение.
И мне — не жаль…
Итак, я оставляю эту кучу
подлейших слов тебе, — подлейшее письмо,
как доказательство того, что мир — дерьмо,
и мы с тобой его не лучше.
Пер. Нодар Джин
ПЕСНЯ О ВРЕМЕНАХ ГОДА
Какая же зима была!
Такая голая! Глухая.
И — ни единого намёка
на теплоту, неодинокость.
Опять была, —
не повториться, как бывало, не смогла.
И, как бывало, не нашла она у времени угла,
где б наконец спаслась от непреложной смены
времён. От непреложности измены.
Моим друзьям, не удалось и им
спастись — в отличие от предыдущих зим.
Один — в окно. Дерзнул упасть он
в небытие. (Индус из касты
так падает.) В паденьи веру
утратил, будто смерть — преддверье
в иную жизнь… Другой — аорту
себе рассёк. Она аккорду
тому билась не в такт, что гордо
зовут порядком в наши дни,
забыв, что грязному эскорту
сие занятье, жизнь, сродни…
Вот и напомнили они.
Какое лето было! В это лето
забылось даже — что такое это.
Мыслишки, — приставучие, как кнопки,
кололись больно в черепной коробке.
Ночами листья изумрудной кроны
пытали зренье чернотой вороньей,
и горизонт размылся, как граница
меж пустотой и тем, что в ней хранится.
О, что была за осень!
В эту осень
меня сомнений искусали осы.
Я перестала верить слову,
стала — звукам.
Лесным, морским, несогласованным
друг с другом.
Я разучилась разговаривать, —
шептала
одну молитву:
чтоб святого больше стало.
О, что за год случился, что за год!
Не удивительный, — наоборот.
Ни радости особой и ни краха:
привычный корм из мелких страхов.
Весна, — и та пришла в обычной маске:
пошлейшие, шумливейшие краски.
Как в уличной толпе, сплошной и длинной.
Как в оперении павлина.
И, как положено, осталось сделать так:
сказаться трупом, неспособным сжать кулак,
которому положено крушить витрину,
за коей — ложь одна… Ей жить, не сгинуть.
Пер. Нодар Джин
ПЕСНЯ О БЕЗРАЗЛИЧИИ
Пифагорейцы, право слово, были правы:
всё, повторяясь, возвращается на круги.
Во всей истории земной — ни капли правды.
Ни капли правды. Лишь одни пустые звуки.
И темнота. И боль потерь. И только снится
вам искра света вдалеке, в конце туннеля.
Мне свет не нужен. Я люблю свою темницу
во глубине своей разобранной постели.
А я не чувствую уже, как говорится,
ни блеска боли, ни её пустого глянца.
Наверно, я могла бы просто притвориться.
Но мне наскучило бы просто притворяться.
Достать бутылку из буфета, жахнуть водки,
да сжечь нутро своё. Да так ему и надо,
покуда в цирке бытия гуляют волки,
изображая на арене клоунаду.
На самом деле — только шок, и только драмы.
И тридцать сребрянников — стоимость билета.
На самом деле не дала бы я ни драхмы
за эти ужасы, за представленье это,
за этот быт, давно оглохший, словно вата,
и разукрашенный, как ряженый на святки.
И мы валяемся в сверкающих кроватях,
как псы бездомные — на загородной свалке.
И жизнь болтается, как бабье коромысло
с пустыми вёдрами. И на своей постели
я раньше плакала — теперь не вижу смысла,
теперь глаза мои, как вёдра, опустели.
А что мне плакать? Что не так ложится карта?
Хотели пику, а в итоге вышла трефа?
Дорога — блеф. И наша жизнь уже — поката.
Но мы на многое готовы ради блефа.
Найти жилище посоветовали люди,
но на дальнейшее не выдали мне чека.
Я буду жить в канализационном люке.
Но независимо. Но абсолютно честно
глядеть в пустые и бессмысленные зенки
разящей правде, под ножом её не охнув.
Лишь опущусь на обездоленную землю
и, в худшем случае, как нищенка, подохну,
чуть преждевременно, немного раньше срока,
открыв грядущему пустеющие вены.
И — без истерики. И не судите строго.
Мой слог — безжалостный, зато предельно верный.
К тому же ночь бежит, как вспугнутые мыши.
К тому же я могу, поддавшись вою ветра,
приговорить к расстрелу собственные мысли,
размазав душу по полотнищу рассвета.
Пер. Ефим Бершин
ПЕСНЯ ДЛЯ ПАСХАЛЬНОГО ВОСКРЕСЕНЬЯ
В Америке скупленной,
в России ли сгубленной
что всё ещё дышит,
то душит — и ближе,
короче, как выдох
прощальный калеки,
ложится твой взгляд,
пробившись сквозь веки.
Так легче тащить ему
близкие сцены
в тебя и сжигать их
в тебе, как в геенне —
язычника. Жги их
сама без следа:
бесцветная краска
зальёт, как всегда,
лицо твоё. Выдай
её, как Его
выдали. Скажут:
Страдала, но вот
спаслась бы, когда бы молилась… Опять!
Вы, раболепных паломников рать,
попробуйте лучше сомненья изъять,
свежесть зелёную аду придать!
Вы, перенявшие нетерпимость
у Верховного Пилигрима,
который, рифмуясь со словом «рок»,
лишил меня всего, что смог!
И ты, их Бог, ничего кроме ада
не сотворивший поныне! Мне
всё, что осталось, —
к железной стене
его прирасти. И ежели Ты
пошлёшь ко мне в приступе доброты
любимого Сына: все, мол, грешны,
прости же Отца… Я от этой стены —
ни шагу теперь! …Пусть Он воскрес
в день воскресенья пасхального, бес —
светный и серый, — послушай: днесь
нечего мне молить у небес.
Пер. Нодар Джин
КАФКА
Обращусь к тебе шёпотом,
ибо не слышишь —
прерогатива мертвеца.
Обращусь из долга, который выше
молчания, тяжелей свинца.
Долг мой — любовь и жалость. Тише
обращаются лишь к отцам.
Скажи, нелегко, наверно, свернуться
в себе, как в тесном орехе — ядро?
Тем паче тебе, кому согнуться
не дали б честь и больное нутро.
Среди крикливых пернатых галкой
жалкой сказался ты, слился с галькой
серой, верой в силу смирения
скверну раскрашенных оперений
скрасить стараясь. Отары, отары.
Блеянье агнцев. На белый алтарь
молча плетётся один. Избранник.
Звуки истрачены. Дух убыванья.
Галька сошла в песчаник. В прах.
Неспешным, возвышенным был твой крах.
Главу твою на плаху деталей
ты нёс покорно.
Словом твоё, как крючком из стали,
дырявил горло.
Повиснув на нём, не стонал, молчал,
чтоб перестало
слово быть, как в начале начал, —
только началом.
Чтобы чем больше молчанья внутри, —
действенней слово,
а вещь, поправ условья игры,
назвалась снова.
Походка твоя была неспешной,
твоё дыхание
было, наверное, безмятежным,
с замиранием
частым. Чистым мелодиям
повторение
паузы мерной верное вроде бы
измерение
может придать, создавая иное
творение:
произведение звуков молчания.
Мера отчаянья мерина — всепонимание,
невыносимость частностей пребывания.
Вот и бредёшь ты, будто набрался браги,
мерин уставший, по переулкам Праги.
Ночь. Пробуждаюсь.
Сжатый кулак.
Ногти колят ладонь.
Но внутри, на душе у меня никак, —
как глубоко под водой.
Разве что вина теребит
за то, что сон и твой перебит
спряжением слов, рождённых в муках
и лишённых лёгкости звуков.
За то, что разводишь их молоком
тёплым, чтоб в частностях и целиком
жизнь показалась удобоваримей,
а сомнения — переборимей.
Чтобы, изъяв из жизни иголки,
сподобить её китайскому шёлку.
Но суета ведь, Кафка, разборчива тоже.
Чистая правда часто утешить не может.
Жизнь, как заноза, торчит из младенческой кожи.
Слова твои боли не унимают.
Словам дела нет до нас.
Да, из грязной почвы вздымают
длани. Нет, не за помощью, — раз.
Два, — не с тем, чтобы, наоборот,
её предложить. Им плевать на народ.
Если и мыслят, бывает, о людях, —
только чтоб не коснуться их.
Касаются — рукою ли, грудью —
только друг друга, только своих.
Нам такой любви не понять.
Тем не понять, кому — умирать.
Вот почему ты и жил безмолвно.
Дыша размеренно, неспеша.
Существуя предельно ровно.
Экономя действие, шаг.
Пытаясь целиком уместиться
в собственный мозг.
С остальным — проститься.
Безмолвие, Кафка, — твоё горючее.
Твой мир скорей абсурден, чем жесток.
Молчанье в спирте разведи покруче,
ступай туда, где врозь, попарно, в куче
дибуки, дьяволы галдят, канючат,
визжат и кувыркаются в падучей,
то прячутся, то сыпят на порог, —
ступай туда. Обитель эта —
твоя душа, жидовье гетто,
накладывающее вето
на всё, что тщится отдалиться.
И отделиться.
Двинуть.
Сгинуть.
Кружит, снижается зуёк,
сужается его орбита.
У точности один итог:
печаль убита и забыта.
А с нею — всё, что было важно.
Вот оттого тебе и страшно.
И оттого твои сомненья
касательно любой мишени,
которая — чем ближе к ней,
тем отдалённее она. Смешней.
Твоя душа была чиста, о, Кафка!
О, Вечный Жид! И та же ставка!
Не спится мне. Сон. По улицам Праги
плетёшься. Вслед (как в чуму вурдалаки) —
немощность твоего совершенства,
вечное, неизлечимое шествие.
Следом за ней — голубица. Ищет
пищу. Нет её. Невезенье.
Птица — как монашка, что рыщет
в поиске своего спасенья.
Нет его. Вместо — печёт ей спину
солнце, язычник неумолимый.
Кафка, всё, что вокруг и рядом,
послушай, не стоит пытливых взглядов
такого, как ты. Не стоит зрения
такого сквозного, что воображение
мешает, как крепким ногам — костыль.
Вместо — попробуем вместе — остынь
и рассмейся! Рассмейся горько,
как горек удел беременной тёлки.
Тебя не унять. Ты плетёшься дальше
мимо кофеен, — тусклой фальши
освещения в них, бесед
кратких ли, длящихся много лет,
утончённых ли, чаще нет,
без исключенья, однако, лишённых
состраданья, любви примет…
Слушаешь. Смотришь. Видишь на коже
даже царапинки у многоножек.
Всякую боль в нетвоей душе —
случилась она или нет уже —
кладёшь в твою. Кладёшь — тяжелеешь.
Всякую тварь, как себя, жалеешь:
в эту обращаешься, в ту.
Тошно в любой. Невмоготу
стало бродить. В неисходной муке
встал наконец и раскинул руки,
чтобы они, как бывает в сказке,
крыльями стали яркой окраски
и унесли далеко-далёко, —
где превратился бы клерк в пророка,
который не шепчет больше, не ропщет,
который всё громче стенает и громче
о порче вселенской
и прочей беде —
что алчность да кривда теперь везде;
стенает пророк, пока ему мочи
хватает, пока его дни и ночи
превращаются в очень синюю,
очень горизонтальную линию,
которая обретает цвет,
которого нет,
превращаясь в то,
что есть Одно Сплошное Ничто.
Пер. Нодар Джин