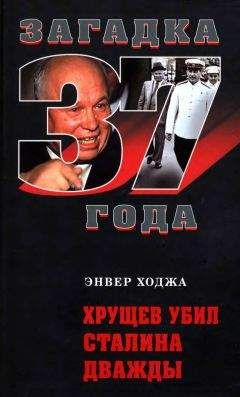Александр Величанский - Под музыку Вивальди
«Гол король от веры в перья…»
Гол король от веры в перья,
в мантию… А сброд,
сброд стыдится лишь неверья
своего: грядет
царь в парче!.. Пацан-козявка
вякнул: «Гол король!»
Но царю не стыдно – зябко,
только зябко, голь!
«Человек, как волк обложен…»
Человек, как волк обложен
небылью своей.
Как клинок, тебя из ножен
я не выну. Лей,
лей любовь, вино, понеже
льется. Но по мне —
ты лишь небылью своей же
стиснута, а не.
«Мы, как сплетни, пересуды…»
Мы, как сплетни, пересуды
сообщались, как сосуды
силой пустоты,
в нас зиявшей – рты,
пальцы, нервов многоточье…
Колбочки часов песочных:
как их не верти,
срок один в них – ты.
«Хоть отъявленною явью…»
Хоть отъявленною явью,
как стеклом литым.
я и сдавлен, всё же я в ней —
как в сосуде джин —
блики пылью вековою
поросли, как мхом…
Что мне явь? – а мне б: на волю
из нее тайком.
«Сообщилось судно течью…»
Сообщилось судно течью
с вечностью пучин.
Но морские волки, те что
знают, что почём —
судно кинули, и, судя
по всему – спаслись.
Терпят бедствие на судне
только стаи крыс.
«В чем сосудов сообщенье?..»
В чем сосудов сообщенье? —
в том ли, что ни коей щелью
не пренебрегла
влага спрохвала?
В том ли, что чекушку, скажем,
мы до дна допьем
и ее наполним нашим
недобытием?
«Уходите без оглядки!..»
Уходите без оглядки!
Состраданья соль,
даже если слезы сладки,
каменеет… Боль
не застынет изваяньем
ваших, что ль, особ —
не имея очертанья,
станет соли столп.
«Звук, я чист перед тобою…»
Звук, я чист перед тобою,
при моих грехах —
кто нас разольет водою
хоть на вздох и прах?
Безъязыкая музыка,
что тебя я без? —
атмосферы ль синей зыбка
или мрак небес?
«Близ холма, что всем известен…»
Близ холма, что всем известен
как гора Парнас,
я бесхитростных овец и
коз убогих пас.
Крючковатым был мой посох —
им – единый мах —
я ловил ягнят и нес их
в гору на руках.
«Было как-то ненароком…»
Было как-то ненароком
утро, но не дня.
Провода набрякли током.
Транспорта возня
началась. В кофейной гуще
ощущений, плеч
всяк душе своей грядущей
двигался навстречь.
«Зренье видит всё заранье…»
Зренье видит всё заранье.
Вкуса уксус лишь —
блажь. Беспало осязанье —
душ не заголишь.
Высечен из глыбы запах
тлена. Слух оброс
страхом. В порах полосатых —
ухо, горло, нос.
«Кладбище желтее птицы…»
Кладбище желтее птицы
райской. Листопад
средь крестов, оград
пал навеки ниц он.
Выше тишины,
обнаженней Божья страха,
как восставшие из праха,
дерева черны.
«Ради боли утоленья…»
Ради боли утоленья,
втаптывая в грязь
грешных нас (в свои творенья),
станут, открестясь,
воспевать решетки, нары
и параш дерьмо —
кто на родине Эдгара,
кто в краю Рамо.
«На людское поголовье…»
На людское поголовье
погребальной глины комья
падают с небес.
Высь небес их вес
полнит силою ударной —
беспощадной, богоданной…
И глядит толпа,
вздевши черепа.
«Выдохся июль. Всё шире…»
Выдохся июль. Всё шире
времени уход
между нами. Вот
даже тополя в квартире
не клубится пух,
семенем набухший. Впрочем,
во дворе на лавке склочен
сонм седых старух.
«Отвлекаясь от бумаги…»
Отвлекаясь от бумаги,
ну, хотя б на миг,
скажем, что у нас в продмаге
(прямо в нем) мясник
удавился. Были толки,
отчего и как.
Но ни кто не смыслил толком
в смерти, в мясниках.
«Не ночами – утром к чаю…»
Не ночами – утром к чаю
жду ее, вернее чаю
появленья: вдруг
вторгнется и рук,
уст моих коснется бурно,
вспыхнет, как смола…
А уйдет… я пуст, как будто
женщина ушла.
«Не запомнил я, казалось…»
Не запомнил я, казалось,
цвета этих глаз,
но наутро все казалось
цвета этих глаз:
в сквере – лиственницы, ели,
девы, дети, спаниели,
блик асфальта ли,
голый дом вдали.
«Годы сменит вдруг година…»
Годы сменит вдруг година.
Человек в свой срок
к Богу лепится, как глина,
жаждет, как песок.
Бог на черепки воззрится
с чистой высоты
или на песок – крупицы
кварца и слюды.
«Как сквозь землю провалилось…»
Как сквозь землю провалилось
солнце в море. Свет
стал рассеян, словно вспомнил
что-то. Мчались с дюн
в волны три наяды юных,
тешась прытью ног.
Сколько же им было десять
наших лет назад?
«Ты ушла из жизни. Да, я…»
Ты ушла из жизни. Да, я
знаю – из моей
(я живьем не погребаю
женщин ли, друзей).
Жутко ладя шутки те же,
плоть, тоску, тщеславье теша,
злая, как молва,
ты еще жива.
«Воробьи. Скворцы. Вороны…»
Воробьи. Скворцы. Вороны.
Голуби с ленцой.
Каски из пластмассы. Робы.
Ватники. Лицо
черной «Волги» из. Ухабы
лезут на бугры.
Псы бездомные. Прорабы.
Крысы и воры.
«Не склониться мне привычно…»
Не склониться мне привычно
над загаром безграничным,
не очнуться вдруг
средь уснувших рук.
Жажда обернулась местью:
сух колодец – в нем
родинок твоих созвездья
не увижу днем.
«Глухоты лохань…»
Глухоты лохань
собственную всклянь —
чу! – качнула… Но покуда
в мире Бах и Букстехуде
существуют, всё же как-то
можно слышать вдруг
хоть тревожных пиччикато
моцартовский звук.
«Сторонитесь душ…»
Сторонитесь душ,
тех, что слишком уж
одиноки. Ведь они-то
так и льнут к вам. Что же скрыто
за злосчастным их
одиночеством – средь пыли
в однокомнатной квартире
где-то между книг.
«Ночь. Кварталов электрички…»
Ночь. Кварталов электрички
вкруг столицы мчат ритмично —
ветер пустырей
гасит поскорей
в мимолетных окнах тени —
паранойя сновидений
до ненастных утр
гонит спящих внутрь.
«В бурю, в вёдро, как младенцев…»
В бурю, в вёдро, как младенцев,
к платьицам, к дубленкам – к сердцу,
прижимая их,
из домов нагих
клочья комнатных собачек
(всех их как-то звать)
вынесут и чуть не плача,
ставят на асфальт.
«Истеричная беспечность…»
Истеричная беспечность
вечеринок. Чок!
С девочками, из-за плеч нас
зрящими. Дичок
(чок!) с бородкой, словно ключик
от чужих квартир, —
надокучили мне, внучек,
и чума, и пир.
«Лот в Содоме мимоходом…»
Лот в Содоме мимоходом
жил. В тоске на дом,
окруженный пьяным сбродом,
что глядеть? – огнем
он гори! Но движет ею
та же страсть одна:
в любопытстве каменеет
Лотова жена.
«Сосны в синеве и бельма…»
Сосны в синеве и бельма
облачности глыб.
Несмотря на корабельный,
просмоленный скрип,
покачнувшись, точно пьяный
сушей мореход,
бор стоит, навек отпрянув
от балтийских вод.
«В душной дюне навзничь лягу…»
В душной дюне навзничь лягу.
Как росы ночную влагу,
дюн дневных песок —
лап, когтей и ног
тысячи следов впитал он,
их рассыпал, разметал он,
оттого в песках
днем бесследно так.
«Оттепель теперь – наслышка…»
Оттепель теперь – наслышка.
Стужа: ни гу-гу.
Слесарю, что, выпив лишку,
ночь проспал в снегу,
ампутировали пару
тароватых рук:
«Уж не то слесарить, падло,
нечем выпить, друг!»
«Рос я при социализме…»
Рос я при социализме
победившем. Поздно в жизни
я очнулся. Звук
изо всех наук
поздно выбрав понаслышке,
я с тех пор поднесь —
весь – вокзальная одышка:
опоздал… конец.
«Пропаганды гной ли, бомбы…»
Пропаганды гной ли, бомбы,
ампул ли напалм,
как инверсии в любовных
сопряженьях – нам
столь привычных компанейски —
или негде? или не с кем? —
пухнут города —
или некогда?
«Облик ли, душа ль из слов, не…»
Облик ли, душа ль из слов, не
проясненных в ней
человек куда условней,
относительней,
нежли тот язык, на коем
говорят о нем
иногда… но будь покоен —
редко: днем с огнем.
«А на улице-тихоне…»