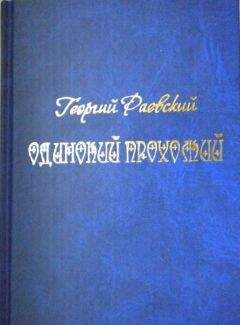Георгий Шенгели - Собрание стихотворений
1924
ГЁТЕ
Там — Фауст, Вертер, годы странствий.
Здесь — тихий Веймар, герцог, перстни,
И старость притупила рифму
И зубом пробует суставы.
А он в стакан венецианский
Кусочек шелка черный вдвинул
И рад, что лоскуток мерцает
Сквозь желтое стекло лазурью.
1924
«Вместо воздуха — мороз…»
Вместо воздуха — мороз.
В безвоздушной глубине –
Плоский, легкий, вырезной,
Алюминиевый Кремль.
На реснице у меня
Колкий Сириус повис,
Промерцал и отвердел
Неожиданной слезой.
Ах, недобрый это знак,
Если плачешь от красы.
Это значит: в сердце нет
Никого и ничего.
1924
«В окно сиял нам полдень. Сквозь решетки…»
В окно сиял нам полдень. Сквозь решетки
Мы видели, как в полудневном сне
Покачивались поплавками лодки,
Отсвечивая в голубой волне,
Мы слышали, как ржавый хруст лебедки
В последний раз пролился в тишине,
А на столе фигуры карт пестрели,
И мы на них рассеянно смотрели.
Нас было трое. Третий был моряк.
Носил он кортик, шрам на лбу и челку,
В его глазах мутнел веселый мрак:
Он в баккара не игрывал без толку,
Он обыграл нас и тянул коньяк,
Как то и следует морскому волку,
Но жуть брала: за мысом крепостным
Уже бледнел, бледнел и таял дым.
Да, корабли ушли невозвратимо
Вдаль от земли, в сияние, в простор,
И только лиловатый локон дыма
Указывал дорогу на Босфор,
А здесь, в солончаках степного Крыма,
Средь зимних роз на южных склонах гор
Считающая ненависть бродила
Под кожаною курткой Азраила.
Моряк зевнул лениво, из ножон,
Не торопясь, двуострый кортик вынул,
Подрезал вдруг один, другой погон
И с плеч сорвал, и резко в угол кинул,
И, не прощаясь, быстро вышел вон.
Я вымолвил: «Был человек и сгинул».
А друг в ответ: «Такой не пропадет:
И деньгам он и жизни знает счет».
1924
«Поникаем в тугие диваны…»
Поникаем в тугие диваны,
Закрываем устало глаза,
И — пускай в отдаленные страны
Золотая уходит гроза.
Не откликнемся ветру и грому,
Крупный запах дождя не вдохнем.
Скука шорхает мышью по дому,
А мышами уютнее дом.
Пусть гремит и грохочет на воле,
Напрягается времени бег.
От работы, и страсти, и воли
Беспримерно устал человек.
И печальное право и счастье
Опоздавшим родиться даны:
В безжеланье и в безучастье
Успокоить последние сны.
1924 (?)
АЙСИГЕНА
Общая матерь, земля, будь легка над моей Айсигеной,
Ибо ступала она так же легко по тебе.
Кто изваял ей каблучок
Из пальмы золотой,
Чтобы паркет орхестрой лег
Под легкою пятой?
Кто ионийские глаза
Ей настежь распахнул,
Когда веселая гроза
Горами гонит гул?
Кем ключевой расплескан смех
Над бедной жизнью той,
Где в прахе распластался грех
Под легкою пятой?
О, стрелка звонкая моя,
О, Айсигена, Ты!..
Зачем ты вьешь, тоску тая,
Венок из высоты?
Как будто хочешь закрепить
Навеки твой полет?
Венком ли можно умолить
Земли могильный гнет?
Как ни тоскуем, все уйдем
Мы в Прозерпинин дом
И асфоделевым венком
Венчаться будем в нем.
Но будет мать-земля легка
Тем, кто не мял цветы,
А ведь нежнее ветерка
По ней порхала ты!
1924
«Засинели с неба снежного…»
Засинели с неба снежного,
Как былые мечты мои,
Волей ветра неизбежного
Мягко прорванные полыньи.
Вверх плеснуло сердце тесное,
Точно слыша призыв трубы:
Там Медведица небесная
Запрокинулась на дыбы.
И лепешкой белой падает,
Быстро падает в глубь луна,
Ветром оттепели радует
Неожиданная весна.
Мнится: выйду, — за воротами
Лукоморье легло дугой
С опаданьями и взлетами
Пены белой и голубой.
И опять под легкой ношею
Зачертит по волнам ладья,
И опять такой хорошею
Станет бедная жизнь моя!
1924
«Ну что же: кончено! Ушла теперь и ты…»
Ну что же: кончено! Ушла теперь и ты.
А время так же пролетает,
И полная луна спокойно с высоты
Над белой церковью сияет.
Была ты взбалмошной, доверчивой и злой,
Свободу звонкую и звонкий стих любила,
Но женская ладонь горячею золой
В меня сыпнула, ослепила.
Зрачок дымящийся тебя не различал.
Я верил: ты всегда была и есть со мною,
И всюду полетишь, куда б я ни помчал,
Покорной будешь и ручною.
И не тебе — другой я посвящал стихи.
С тобою некогда и незачем мне было
Делить и трезвый ум, и резвые грехи,
И на ночь не тебя рука моя крестила.
О, как ты мучилась, как ревновала ты!
И тихо умерла второю ночью мая.
И мертвая луна льет холод с высоты,
Твой трупик худенький лучами обнимая.
Да, майской полночью мне стало тридцать лет.
Томительно влачусь под ношею земною.
О, молодость моя! Тебя со мною нет!
Да и меня теперь уж нет со мною!..
1924
«Окно одно и смотрит в коридор…»
Окно одно и смотрит в коридор;
Обои цвета кирпича и ржави,
И в комнате прохлада, темнота
И восковая тишина паркетов.
А за окном, за галереей ломкой, –
Сияющий в июльском полдне двор;
Мерцают стены, черепица рдеет,
А из-за крыши выдвинулся купол,
И на кресте, видавшем генуэзцев,
Уснули голуби, — их грудь слегка
Под смуглым блеском меди розовеет…
Окно одно.
К нему прильнул мой тростниковый столик,
И беленькая Женя в белой рамке
Отворотилась от сиянья полдня
И смотрит на меня… Мне двадцать лет…
Мне двадцать лет, и я люблю работать,
Я рад, когда могу сюда вернуться,
К моим листкам, исписанным стихами,
К моим тетрадям, где пытался я
Слить воедино Штирнера и Канта,
К моим английским перьям и печаткам,
Карандашам — что иглы заостренным,
Все в первоученическом порядке,
И я — поэт, и я — пишу, люблю…
Пойду гулять на мол иль на бульвар,
Иль в шахматы играть, иль на свиданье,
И, точно тайна сладкая, дрожит
Воспоминанье о тетрадях ждущих,
О Штирнере, о перьях и печатках…
Так институтка помнит и хранит
Свой первый поцелуй гардемарина.
Теперь мне тридцать. Всё ушло, ушло.
Нет Жени. Кант забыт. Мой стол завален
Газетами, засыпан пеплом. Я
К нему сажусь на полчаса в неделю.
Стихи искусней, и статьи умней,
И платят много. Но сама работа
Столь постарела, опостыла так,
Что я готов читать Шерлока Холмса,
Чтобы о ней еще хоть час не думать…
Таков закон. И через десять лет
Я, где-нибудь в больнице дотлевая,
Припомню вдруг с сегодняшней тоскою,
С сегодняшнею жалостью к себе,
Не тот июльский полдень, не окно,
Глядящее на генуэзский купол,
А нынешнюю комнату мою,
И пыльный стол, и желтые газеты
И прохриплю: «Как было хорошо!»
1924
«Всё, что надо, есть: и лампа…»
Всё, что надо, есть: и лампа,
И бумага, и тишина, –
Что же гипсовая немота
Заливает мои слова?
Да ведь если они и мертвы,
Если надобен слепок с них,
Неужели скульптор не понял,
Что заливает он пустоту?
Что когда он разымет глыбку,
То неровный крохкий провал
Зазияет, как могилка,
В слишком встряхнутом кирпиче?
И тогда — пусть кличут звоны,
Пусть христосуются вокруг, –
Самый старый вздохнет и скажет:
«А кому-то уже пора!»
1924
«Зачем приносишь на твердых ботфортах…»
Зачем приносишь на твердых ботфортах
Песок голубой с далеких пляжей,
На пробковом шлеме зачем мерцает,
Как будто ветром полна, кисея?
В углу моем темном жучок стрекочет
В старинных книгах, в тугих переплетах,
Мне здесь уютно, здесь я пригрелся,
И ровною ниткой свивается жизнь.
Ты помнишь: смеющийся чревовещатель
Откидывал крышку с пустой шкатулки,
И кто-то кричал, бормотал оттуда:
«Оставь, закрой же, я здесь привык».
1924