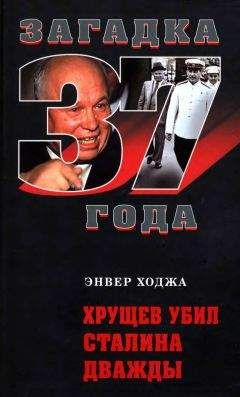Валентин Катаев - Избранные стихотворения
О, светлая прелесть далеких прогулок,
О, нежная жажда уездного счастья,
В какой переулок меня ты заманишь
Для пламенной страсти и тайных свиданий.
1921
«Осыпанные звездами неловко…»
Осыпанные звездами неловко,
Изнемогают в мае тополя.
И душной тростниковою циновкой
Прикинулась под головой земля.
Сверчки ль звенят, иль бьется сердце сухо,
Сквозь душный сон, понять я не могу.
И клонит ночь внимательное ухо,
В траву роняя месяца серьгу.
1921
Подсолнух
В ежовых сотах, семечками полных,
Щитами листьев жесткий стан прикрыв,
Над тыквами цветет король-подсолнух,
Зубцы короны к солнцу обратив.
Там желтою, мохнатою лампадкой
Цветок светился пламенем шмеля,
Ронял пыльцу. И в полдень вонью сладкой
Благоухала черная земля.
Звенел июль ордою золотою,
Раскосая шумела татарва,
И ник, пронзенный вражеской стрелою,
Король-подсолнух, брошенный у рва.
А в августе пылали мальвы-свечи,
И целый день, под звон колоколов,
Вокруг него блистало поле сечи
Татарской медью выбритых голов.
1921
Стансы
•
О чем писать в глухой тиши предместий,
Под крик мальчишек и под свист саней,
Где оседает смуглый снег созвездий
На золотых ресницах фонарей?
И если с каждым часом хорошее
Моя соседка наяву и в снах,
О чем писать, как не о смуглой шее,
Как не о серых девичьих глазах?
•
Ты не пришла. Конец дневным утехам,
Ночь ангелом опять стоит в стекле.
Фонарь подвешен золотым орехом
На лебедином елочном крыле.
Ничто о марте не напоминает,
Но серной спички огонек живой,
Лукавою фиалкой расцветает
В моей руке стеклянно-голубой.
1921
Харьков
«Может быть, я больше не приеду…»
Может быть, я больше не приеду
В этот город деревянных крыш.
Может быть, я больше не увижу
Ни волов с блестящими рогами,
Ни возов, ни глиняной посуды,
Ни пожарной красной каланчи.
Мне не жалко с ними расставаться,
И о них забуду скоро я.
Но одной я ночи не забуду,
Той, когда зеркальным отраженьем
Плыл по звездам полуночный звон,
И когда, счастливый и влюбленный,
Я от гонких строчек отрывался,
Выходил на темный двор под звезды
И, дрожа, произносил: Эсфирь!
1921
«Зима и скверик. Пестрый бок коровий…»
Зима и скверик. Пестрый бок коровий.
Географическая карта. Там
По белизне и пятнам ржавой крови
Кустов и снега пестрые цвета.
Там воронье взлетает, исковеркав
Трезубцами лебяжий пух канав.
И в небе скачет, мчится тройка – церковь,
Звеня по тучам пристяжными глав.
1921
«Разгорался, как серная спичка…»
Разгорался, как серная спичка,
Синий месяц, синей и синей.
И звенела внизу перекличка
Голосов, бубенцов и саней.
Но и в шуме, и в вальсе, и в пенье
Я услышал за мерзлым стеклом,
Как гремят ледяные ступени
Под граненым твоим каблучком.
1922
«В досках забора синие щелки…»
В досках забора синие щелки.
В пенье и пене мокрая площадь.
Прачка, шуруя в синьке и щелоке,
Чьи-то портки, напевая, полощет.
С мыла по жилам лезут пузырики.
Легкого тюля хлопья летают.
В небе, как в тюле, круглые дырки
И синева, слезой налитая.
Курка клюет под забором крупку
И черепки пасхальных скорлупок.
Турок на вывеске курит трубку,
Строится мыло кубик на кубик.
Даже крикливый, сусальный, хриплый
Тонкой веревкой голос пету́шит
Перед забором, взяв на защипки,
Портки и рубахи и тучи сушит.
Турку – табак. Ребятишкам – игры.
Ветру – веселье. А прачке – мыло.
Этой весной, заголившей икры, —
Каждому дело задано было.
1922
Румянцев
Пароход назывался «Румянцев»
И курсировал по морю в Крым.
Потому ль генеральским румянцем
И румянился яблочный дым?
А потом под трубою с лампасом
Бухту пар как письмо разодрал,
И орал оглушительным басом
Боевой пароход-генерал.
Чайки в клочья. И небо на шлюпки
Лепестками посыпалось с труб,
И стреляли салю́туя люки,
И полотнами хлопал яхт-клуб.
Только вышли, валясь, как сейчас же
Положила открытая зыбь
Косоватые полосы сажи
На морскую цветистую сыпь.
Тонет берег в тумане, и значит,
Укачало Очаков меж мачт,
Только красный буек маячит
И подпрыгивает как мяч.
Значит в драке, по трапу и к черту! —
По канатам, по бочкам на бак:
Волны швабрами били по борту,
В переборки, с разбегу, в набат!
Медный колокол мает и носит
В детской буре набеги беды.
Эту бурю буфетчик подносит
На подносе в стакане воды.
И зигзаги размашисто пишет
Та же сода в волнах за кормой,
Что и дымом игольчатым дышит
Над стаканом с шипучей водой.
Но ни качка, ни зыбь, ни туманы
Не страшны по пути к маяку.
Только ветер бежит полотняный
По матросскому воротнику,
Только щеки от ветра в румянце,
Только гуще над палубой дым.
Пароход назывался «Румянцев»
И курсировал по морю в Крым.
1922
Листья
Вытекает красный глаз трамвая.
Слепнет лень, и нет поводыря.
Глохнет, шпильки на ночь вынимая
Из черемухи, заря.
Распустила косы – душат.
(Сколько душных листьев и волос!)
И пылают маленькие уши
Рядом с огоньками папирос.
От любви глаза мерцают тускло,
Труден шеи поворот,
И смыкает судорожно мускул
К немоте прильнувший рот.
Говори – на радость или зависть
На тебе зеленый газ?
Глохнут листья, гусеницы, завязь.
Вытекает красный глаз.
1922
Черешни
От самой свистящей скворечни
До черных садовых плетней —
Черкешенок очи – черешни,
Чем слаще они, тем черней.
А дробь разлетается сразу,
Вздымается маленький смерч.
И в сладкую косточку глаза
Клюет воробьиная смерть.
1922
Липы
Ночь стеклом обманывает утро.
Негатив. Вираж-фиксаж. Пруды.
Шевелится осторожно утварь
Летних звезд, деревьев и воды.
Ничего из жизни не забыто.
Ни один из дней не позабыт.
Разве можно вырвать ночь из быта,
Если всхлипы каждой липы – быт.
А ведь как морозы их сжигали…
(Разве всхлипывать к лицу?)
Для того ль их столько насажали
По всему бульварному кольцу?
Пусть бы лучше сторожили юбки,
Пусть бы лучше штрафовали тех,
Кто не в урны выбивает трубки,
А в песок или в январский снег.
Пусть уж лучше на столы и стулья,
В канцелярии, под циркуля,
Чем прикидываться шумом улья,
Роем пчел соцветья шевеля.
1922
Картина марке
Мелким морем моросил
Бриз и брызгал в шлюпки,
Вправо флаги относил,
Паруса и юбки.
И, ползя на рейд черпать,
Пузоватый кузов
Гнал по волнам черепах —
Черепа арбузов.
1922
Колосс
Кто говорит, что он приснился —
Колосс на глиняных ногах?
Я видел сам – и не дивился —
Его подошвы на песках.
Я видел сам песок на киле
У глинобитной крутизны,
Пласты земли, и моря мили,
И щебень в неводе волны.
Я сам рукою детской трогал
Смолу, и лодку, и весло,
Пока отец смотрел с порога,
Как море дулось и росло.
И дальше, выше, в гору, в груде,
В ромашковом руне овцы
Я трогал каменные груди
И виноградные сосцы.
Но полуобморочный облик,
Но голову колосса, лоб
Лишь раз, следя полеты облак,
Я увидал в полночный час.
Когда над крышами предместий
Они зажглись на миг один.
Морозной перхотью седин,
Внезапным ужасом созвездий.
1922
Полет
Во сне летал, а наяву
Играл с детьми в серсо.
На ядовитую траву
Садилось колесо.
Оса летала за осой,
Слыла за розу ось,
И падал навзничь сад косой
Под солнцем вкривь и вкось.
Во сне летал… А наяву
(Не как в серсо – всерьез!)
Уже садился на траву
Близь Дувра Блерио.
Ламанш знобило от эскадр.
Смещался в фильме план.
И было трудно отыскать
Мелькнувший моноплан.
Там шлем пилота пулей стал.
Там пулей стал полет —
И в честь бумажного хвоста
Включил мотор пилот.
Во сне летал… А наяву
У эллинга, смеясь,
Пилот бидон кидал в траву
И трос крепил и тряс.
И рота стриженых солдат
Держала крепко хвост,
Пока пилот смотрел назад
Во весь пилотский рост.
Касторкой в крылья фыркал «Гном»,
Касторку крыла пыль,
И сотрясал аэродром
Окружность в десять миль.
Во сне летал… И наяву
Летал. Парил Икар,
Роняя крылья на траву
Трефовой тенью карт.
Топографический чертеж
Коробился сквозь пар.
Был на игрушечный похож
Артиллерийский парк.
Но карты боя точный ромб