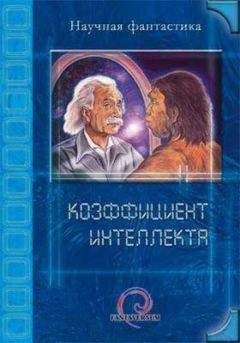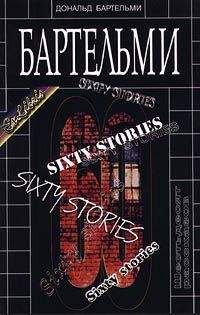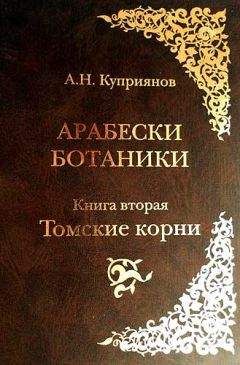Андрей Плигузов - Стеклянная гора
64.
Встанешь ночью — и будешь смотреть,
напрягая глаза,
как снуют переулки,
наклонясь в ярко-желтом
мелькающем свете,
будто что-то плетут из соломы.
Так и будешь без всякого дела
мусолить зрачки, и глаза
заблестят, свет пойдет со слезой.
Слишком горьким лекарством
обносят городских постояльцев.
А дома, под дождями насупясь,
стоят, сочиняют стихи по-китайски,
помнят работу свою.
65.
Мандельштам с головою в руках
ищет, где ему лечь, где помягче
земля. Снаряжаем печальные корабли
на чужбину, и плывем, и в могилы
берем облака, стоявшие над головой
Моисея. Но и там не кончается
наше кочевье. Ночами
Данте слушает тень,
склонившуюся над Торой.
Под эту диктовку
мы идем, и Красная площадь
расступается перед нами, как море.
66.
Кипарисы, деревья
запретной любви,
не дающие тени,
длинноногие школьники,
рекруты ночи,
дожидаются времени,
за античностью следующего,
но опаздывающего.
Безголовые бабочки
из-под кисточки Ци Бай-ши
избалованы нежным цветком
с итальянским названием.
Не спешим,
и поищем в подстрочнике
загорелые голени,
локти косых парусов
во Флориде, кипарисы,
скользящий металл
дорогого вина. Времена
для искусства не самые лучшие:
лук, свирель, Апполон,
Роберт Лоуэлл, ныне покойный,
музыкальная школа, молочные
гаммы, смуглый отрок,
которому звуки не впрок.
67.
Н.Г.
Проверим узы брачные
с тобою, высота,
здесь, в пламени горящего
тернового куста,
здесь, на библейской пустоши,
в ветхозаветной тьме
пространства безвоздушного,
в бесснежной той зиме,
что нас несла над городом,
держала на весу,
сорила полустертыми
монетками. К лицу
сухой тянулась варежкой,
но не было тепла.
Зато была испарина,
зато - напополам
постель делили, чистую
стелили простыню,
и это все записано.
И я себя виню,
что поздно образумился,
что лишь сейчас вхожу
в огонь, в чужую улицу,
где пальцы обожгу.
Прошу огня неспящего,
что ходит по пятам,
прошу того, горящего
тернового куста.
68.
Под причальной стенкой в порту затрубил тритон.
Домовой зашаркал на кухне, но скоро заснул.
Во дворе деревья стоят в демисезонных пальто.
Дома нет никого, и цветок отворачивается к окну.
Я хотел бы все это видеть в морской бинокль,
я бы много дал, чтобы в этой сказке заснуть
и проснуться в ней же, чтоб в кладовке пахло вином,
и разбухшая форточка открывалась прямо в весну.
Хриплый рык радиолы и мышеловок стук.
И тритоны трубят и плещутся между тяжелых барж
(Больно длинная строчка, будто идешь и идешь по мосту,
и не знаешь куда. А солнце встает за спиной и идет туда же).
69.
В кухне на плитке варится жженка.
Ночь громыхает автобусом желтым.
Крупными каплями пахнет из сада.
Знаю: Господь снисходителен к слабым.
Мучится славой надтреснутый тенор.
Оперный свет наполняется тенью.
Курит на цепкой солдатской кровати
Старый военный в больничном халате.
Все это пригороды обещают,
Эту мораль вперемежку с вещами.
С ней в коридоры, где пахнет стареньем,
Входят, как входят в небесные реки,
Чтобы уснуть и под утро умыться.
В женщинах - отроческая невинность.
Дети — как найденные в капусте.
Сотня народов. Пятнадцать республик,
Пригородов, придорожных поселков,
Сладкого воздуха, мяты, карболки,
Призывников, невоинственных с виду –
Вот их выкрикивают по алфавиту!
70.
Что же осень? Хотелось бы знать,
что же осень? Куда
потянулись купальные шапочки, паруса
экранов в курортных кинотеатрах,
небеса с нарисованными
журавлями? Осень –
то, что останется,
когда все они уплывут,
улетят, и ручей не застынет
и не пересохнет, а просто
потечет внутрь земли.
Осень - это мы,
с воспаленными веками,
это зимняя птица, поющая
на руках у мертвого дерева.
71-73.
Детдомовцы поют псалом Давида
на пионерском празднике. Слепой
Христос зовет поводыря идти в Эммаус –
зачем? Не знаю. Потные крестьяне
с гружеными повозками минуют
заставы городские, напевая
о том, что было время — миновалось
давно, что и у Волги
когда-то золотое было дно...
А шарлатан толкует сны вдове
и манит мальчика из бакалейной лавки,
и трет усердно цыпки на руках.
Вот сон вдовы: она купила лошадь,
а муж-покойник денег пожалел
и бил вдову со странными словами:
Настанет Пасха, говорил, тогда
и я на нашем Сивке покатаюсь,
покуда же коня побереги!..
Печеной рыбой накормили нищих
и понесли детдомовцам остатки:
уж больно жалостно они поют,
и что же делать с ними, если им
еще не время, и Христу не время
проситься в путь - все этот сочинитель,
который на руку нечист, его бы, гниду,
да придавить!..
***
Десяток лет, услужливый десяток
лениво-добродетельных мещан
всегда найдет работу, например,
перебирает, пальцы наслюнив,
давнишние рентгеновские снимки
столичных городов старинных,
желающих родниться и потешить
свою страну случайным кумовством.
Все тот же предприимчивый десяток,
отборный взвод благих надежд и планов,
качает волны кардинальских шапок
и вены политических границ
вскрывает металлической линейкой
с дециметровой меткой по бокам,
да так, что карты заплывают красной
и черной кровью. Этой несвободы
в определеньи собственного цвета
не знает только юноша-дельфин,
играющий с монахиней-русалкой
в рябой адриатической воде,
да несколько читателей, чей возраст
внушает опасение. Десяток
сдает дежурство. А другой десяток
позлее, понахальнее, выходит
под наши окна и чеканит шаг.
***
По воскресеньям в городском саду,
где все мурлычут песни Окуджавы,
Князь Тьмы, малец в косых татуировках,
стоит с зажженной спичкою в руке.
И девочка чернильный морщит носик,
капризничает у него под кожей,
потягиваясь, ляжками поводит
и держит на руках: "Любовь до гроба"
и что-то полустертое: "Кто не был,
тот..." Тот, конечно, будет
вот здесь, в саду, и побежит собакой
в соседский сад, чтобы скулить и драться,
и спать без памяти, и шевелить
разбитыми губами в лунном свете,
и спички жечь у черного окна.
Две половинки времени сошлись
и нас нашли не там, где мы живем
и в очередь встаем в затылок,
а там, где были, жили, целовались:
Замри! И снова в городском саду
Князь Тьмы мусолит скипетр и державу –
бутылку в правой и ранетки в левой,
и девочка сулит любовь до гроба.
74.
«Аз, буки, веди, глаголь...» — по слогам
повторяют обрусевшие немцы,
казахи, корейцы, евреи.
Константин и Мефодий диктуют
им слово за словом,
пряча лица, монахи
над ними поют в небесах,
стаи галок летят от засечной
черты и кричат по-славянски.
На дорогах, на торжище,
в церкви, на вокзальном перроне
шепчут, дышат друг другу в лицо,
поют в унисон
торжество православия
в этой великой стране, Рим затмившей,
изменившей латыни державе
москалей, новгородцев,
опальных бояр из Твери.
Хриплый говор идет, как история,
против течения рек.
Широко, где на карте
обозначена наша земля,
натекает, как будто в дырки от циркуля,
туда, где живут,
лясы точат, похабщину
пишут на стенах, поют по-славянски
и жмутся на паперти
христианского храма России.
75.