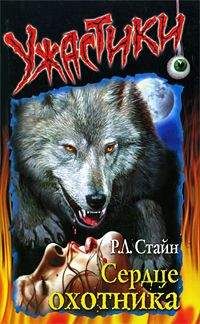Геннадий Жуков - Стихи
Убежала бусина с нитки суровой
Убежала бусина с нитки суровой,
Побежала бусина дальней дорогой.
Как же ты о бусине не спохватилась?
Укатилась бусина… Укатилась…
Завяжи на нитке узелок на память,
Погляди с улыбкой — если грустно станет —
В этом месте ниточки всё и случилось.
Укатилась бусина… Укатилась…
Убежала бусина с нитки суровой,
Побежала бусина дальней дорогой.
Вся судьба на ниточке крепко держалась,
Только эта бусина… Экая жалость…
Город
Вот этот город…
Я скажу, что люблю,
Но скажу, что люблю вослед
Любви, что этим городом прошла…
Вот этот город…
Я скажу, что люблю
Этот синий прозрачный свет
Зависшего над городом крыла.
Только, что ж я люблю? Дым его площадей,
Или пьяную пену помпезных огней,
Беломраморный зал — там, где вор и делец —
Иль промозглый подвал — там, где сор и певец —
Этот город, где Ника, как выкрик летит
Над растресканной жалобой Кариатид,
Над подсохшею коркою вечных трущоб?
Я люблю этот город. Но… что же еще?
Город,
Детский отсвет ловлю
В беглых взглядах твоих людей,
В кипении наречий и племен.
Вот этот город.
Я скажу, что люблю —
Все больнее и все нежней —
Мой детский, мой неутоленный сон…
И ты помни, душа, отчего суета:
Здесь врата на Кавказ и в Россию врата,
И не слышно за гулом и лязгом ворот,
Что мальчоночка мне под гитару поет,
А залетный торговец с компанией дам
Переводит мальчоночке жизнь по складам,
И, прищурясь, глядят приблатненный юнец,
И отец городской — он же крестный отец.
Из России сквозняк, да с Кавказа сквозняк,
Повстречавшись — как скорый, и как товарняк —
Вдохновенно гудят в разошедшийся шов
Приоткрытых ворот… Только, что же еще?..
…а еще старый двор, проперченный золой,
С легендарной, воспетой ростовской урлой,
И родное, а нынче чужое, окно —
Я ушел, а оно еще отворено…
А потом, проржавев на придонных ветрах,
Дом рассыплется в пыль, дом рассыплется в прах,
И сотрется, и в Дон — с талым снегом — стечет…
Я люблю этот город. Но, что же еще?..
Уходящий мой город, мальчишеский сон,
Убывающий в небыль, сползающий в Дон,
Уносимый потоком безжалостных дней,
Мне швыряет, как пену, своих голубей!
И в бегущей — сквозь пену — галдящей толпе,
Я бегу — я со всеми — я сам по себе,
И теряю свой след, и мой путь освещен
Этим детским лицом. Только, что же еще…
Слышишь?
Да ты и не слышишь, о чем я тебе!
Кто я тебе… и что ты мне… Да, я люблю — но, кто я тебе?
Тише —
Сам себе я твержу — что я, могу сказать? —
Только
Смешенье снов и слов — все, что скажу…
Знаешь —
Вся нежность моя и боль —
Ночью
Нежнее боль и нежность больней…
Позже,
Пусть кто-нибудь скажет: что же еще?
Позже
Пусть кто-нибудь скажет, в чем виноват,
После,
Когда взойдут огни и сойдет закат
После…
Но это после меня.
Да…
Письма из города. Дворик
… ты качала,
Ты лелеяла, нянькала глупую душу мою,
Дворовая родня — обиталище тасок и сплетен.
Гей! Урла дорогая! Мне страшно, но я вас люблю.
Мне уже не отречься, я ваш, я клеймен, я приметен
По тяжелому взгляду, железному скрипу строки —
Как ножом по ножу — и, на оба крыла искалечен,
В три стопы — как живу — так пишу, и сжимает виски
Жгут тоски по иному, по детству чужому… Я мечен
Этим жестким жгутом, он мне борозды выел на лбу
И поставил навыкат глаза — на прямую наводку,
Чтоб глядел я и видел: гляжу я и вижу в гробу
Этот двор, этот ор, этот быт, эту сточную глотку
Дворового сортира (в него выходило окно)
Взгляды жадных старух, эту мерзость словесного блуда…
Я люблю вас и я ненавижу. Мне право дано —
Я из наших, из тутошних, я из своих, я отсюда.
Испытателем жизни — вне строп, вне подвесок, вне лонж —
Меня бросили жить, и живу я, края озирая,
Из какого же края, залетный восторженный «бомж»,
Залетел я? И где же — ну где же! — края того края?
Камень краеуголен… Но взгляд мой, по шару скользя —
Как стекло по стеклу — возвращается к точке начала…
Ну, нельзя было в этом дворе появляться, нельзя!
Не на свет и на звук, а на зык и на гук ты качала…
Евангелие от Фалалея
— Отчего, скажи, Фалалей,
Ты не любишь божьих людей?
— Оттого, скажу, что смотрю да гляжу,
А еще чего не скажу…
А скажу тебе — помнишь? — ночь была святая,
Приходила к Богу девка разбитная —
Щечки белы, да губки алы — шлюшка из Магдалы.
Верно, что-то он ей там сказал,
Верно, что-то он ей там поведал…
Ничего у нее не взял, ничего-то ей не дал.
И не водятся с тех пор на свете
Божьи люди — Божьи дети.
А растут с тех пор, как грибы,
Божьи люди — божьи рабы…
И гудит во храме торг,
И горит издевочка —
То ль заздравная свеча,
То ли трехрублевочка.
Нагрешится божий раб —
В дом Господень, как домой —
Сунет Господу трояк:
Выручай, хозяин мой!
Отщипнет от Бога плоть,
Выпьет зелье рвотное —
Отвечай теперь, Господь,
Я твое животное!
…Только Машенька, Мария, Магдалина
Перстенечками сверкает в уголочке:
За юдоль мою, дай, Господи, мне дочку…
А тебе дай, Господи, Сына…
Был дом
Был дом, а в доме был день
И день завершила ночь,
И дом окутала лень —
Затейливой музы дочь.
И дом гудел до утра,
И дым до рассвета
Тянулся, словно дым костра…
Как звать тебя, сестра? —
И еле заметно
Ты скажешь: звать меня — сестра…
…И снова был день,
И день завершился днем,
И ночь оставила тень,
И было легко вдвоем.
Я обнял нежную грудь,
И в облаке света
Спросил — так, словно бы вчера:
— Как звать тебя, сестра?
И еле заметно ты скажешь:
— Звать меня сестра…
…Запомни этот дом —
Тебя чужую,
З апомни дом, где я чужой
Тебя целую.
Запомни этот свет чужой,
Чужое небо.
Здесь ничего родного нет,
И Бог здесь не был.
Мир, где родными будут до утра
Твои объятья,
Где я люблю тебя, сестра,
Как сорок братьев…
…и снова был день
И день завершился днем,
И дом окутала тень
Своим невесомым сном…
Оставь же лучше в нем —
На грани рассвета —
Чуть слышный свет приоткрытых век!
И еле заметно оставь мой дом,
Елизавета,
Уйди на час и уйди на век.
Речитатив для дудки
И была у Дон-Жуана шпага
И была у Дон-Жуана донна Анна
М. ЦветаеваИ была у мальчика дудка на шее, а в кармане — ложка, на цепочке — кружка, и была у мальчика подружка на шее — Анька — хипушка. Мальчик жил-поживал, ничего не значил и подружку целовал, а когда уставал — Аньку с шеи снимал и на дудке фигачил… Дудка ныла, и Анька пела, то-то радости двум притырочкам! В общем, тоже полезное дело — на дудке фигачить по дырочкам. А когда зима подступала под горло, и когда снега подступали под шею, обнимались крепко-крепко они до весны. И лежали тесно они, как в траншее, а вокруг было сплошное горе, а вокруг было полно войны… Война сочилась сквозь щели пластмассового репродуктора, война, сияя стронцием, сползала с телеэкрана. Он звук войны убирал, но рот онемевшего диктора — обезъязычевший рот его — пугал, как свежая рана.
И когда однажды ночью мальчик потянулся к Анне, и уже встретились губы и задрожали тонко, там — на телеэкране — в Ираке или Иране, где-то на белом свете убили его ребенка. И на телеэкране собралась всемирная ассамблея, но не было звука, и молча топтались они у стола. И диктор стучал в экран, от немоты свирепея, и все не мог достучаться с той стороны стекла. А мальчик проснулся утром, проснулся рано-рано, взял на цепочке кружку и побежал к воде, он ткнулся губами в кружку, и было ему странно, когда вода ключевая сбежала по бороде. А мальчик достал из кармана верную свою ложку и влез в цветок своей ложкой — всяким там пчелам назло, — чтобы немножко позавтракать (немножко и понарошку), и было ему странно, когда по усам текло.
Тогда нацепил он на шею непричесанную свою Анну.
И было ему странно Анну почувствовать вновь…
Тогда нацепил он на шею офигенную свою дудку,
Но музыку продолжать было странно, как продолжать любовь. Он ткнулся губами в дудку, и рот раскрылся, как рана,
Раскрылся, как свежая рана. И хлынула флейтой кровь.
Колокольня