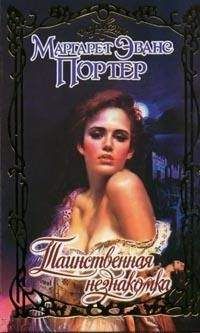Генрих Гейне - Стихотворения. Поэмы. Проза
Но, между прочим, я думаю, что еще лучше было бы и во всей стране сразу стало бы светлее, если бы вешали самих обскурантов in natura.[97] Но раз подобных людей, нельзя вешать, надо клеймить их. Я опять-таки выражаюсь фигурально, — я клеймлю in effigie.[98]
Правда, господин фон Бельц{642}, — он бел и непорочен, как лилия, — прослышал, будто я рассказывал в Берлине, что он заклеймен по-настоящему. Желая быть обеленным, этот дурак заставил соответствующую инстанцию осмотреть его и письменно удостоверить, что на спине его не вытиснен герб, — эту отрицательную гербовую грамоту он считал дипломом, открывающим ему доступ в высшее общество и был поражен, когда его все-таки вышвырнули вон; а теперь он призывает проклятия на мою злополучную голову и намеревается при первой же возможности пристрелить меня из заряженного пистолета. А как вы думаете, madame, чем я собираюсь защищаться? — Madame, за этого дурака, то есть за гонорар, который я выжму из него, я куплю себе добрую бочку рюдесгеймского рейнвейна.
Я упоминаю об этом, чтобы вы не приняли за злорадство мою веселость при встрече на улице с господином фон Бельцом. Уверяю вас, madame, — я вижу в нем только любезный мне рюдесгеймер. Едва лишь я взгляну на него, как меня охватывает блаженная истома, и я невольно принимаюсь напевать: «На Рейне, на Рейне{643}, там зреют наши лозы», «Тот образ{644} так чарующе красив», «О белая дама{645}…». Мой рюдесгеймер глядит при этом весьма кисло — можно подумать, будто в состав его входят только яд и желчь, но уверяю вас, madame, это настоящее зелье; хоть на нем и не выжжено клейма, удостоверяющего его подлинность, знаток и без того сумеет оценить его. Я с восторгом примусь за этот бочонок; а если он начнет сильно бродить и станет угрожать опасным взрывом, придется на законном основании сковать его железными обручами.
Итак, вы видите, madame, что за меня вам нечего тревожиться. Я вполне спокойно смотрю в будущее. Господь благословил меня земными дарами; если он и не пожелал попросту наполнить мой погреб вином, все же он позволяет мне трудиться в его винограднике; а собрав виноград, выжав его под прессом и разлив в чаны, я могу вкушать светлый божий дар; и если дураки не летят мне в рот жареными, а попадаются обычно в сыром и неудобоваримом виде, то я умудряюсь до тех пор перчить, тушить, жарить, вращать их на вертеле, пока они не становятся мягкими и съедобными.
Вы получите удовольствие, madame, если я соберусь как-нибудь устроить большое пиршество. Madame, вы одобрите мою кухню. Вы признаете, что я умею принять своих сатрапов не менее помпезно, чем некогда великий Агасфер{646}, который царствовал над ста двадцатью семью областями, от Индии до Эфиопии. Я отберу на убой целые гекатомбы{647} дураков.
Тот великий филосел{648}, который, как некогда Юпитер в образе быка, домогается расположения Европы, пригодится на говяжье жаркое; жалкий творец{649} жалостных трагедий, показавший нам, на фоне жалкого бутафорского царства персидского, жалкого Александра, на котором не заметно ни малейшего влияния Аристотеля, — этот поэт поставит к моему столу превосходнейшую свиную голову с приличной случаю кисло-сладкой усмешкой, с ломтиком лимона в зубах, с гарниром из лавровых листьев, искусно приготовленным умелой кухаркой{650}; певец коралловых уст, лебединых шей, трепещущих белых грудок, милашечек, ляжечек, Мимилишечек, поцелуйчиков, асессорчиков, а именно Г. Клаурен{651}, или, как зовут его благочестивые бернардинки с Фридрихштрассе: «Отец Клаурен! Наш Клаурен!» — вот кто доставит мне все те блюда, которые он с пылкостью воображения, достойной сластолюбивой горничной, умеет так заманчиво расписать в своих ежегодных карманных сборничках непристойностей{652}; в придачу он поднесет нам еще особо лакомое кушанье из сельдерейных корешочков: «После чего сердечко застучит, вожделея!» Одна умная и тощая придворная дама, у которой годна к употреблению лишь голова, даст нам соответственное блюдо, а именно спаржу. Не будет у нас недостатка и в геттингенских сосисках, в гамбургской ветчине, в померанской гусиной грудинке, в бычьих языках, пареных телячьих мозгах, бараньих головах, вяленой треске и в разных видах студней, в берлинских пышках, венских тортах, в конфетках…
Madame, я уже мысленно успел испортить себе желудок. К черту подобные излишества! Мне это не под силу. У меня плохое пищеварение. Свиная голова действует на меня так же, как и на остальную немецкую публику, — потом приходится закусывать салатом из Виллибальда Алексиса{653}, он имеет очищающее действие. О, эта гнусная свиная голова с еще более гнусной приправой! Не Грецией и не Персией отдает она, а чаем с зеленым мылом.
Кликните мне моего толстого миллиардурня!
Глава XVMadame, я вижу легкое облако неудовольствия на вашем прекрасном челе, вы словно спрашиваете меня: справедливо ли так разделываться с дураками, сажать их на вертел, рубить, шпиговать и уничтожать в таком количестве, какое не может быть потреблено мной самим и потому становится добычей пересмешников и раздирается их острыми клювами, между тем как вдовы и сироты вопят и стенают…
Madame, c’est la guerre![99] Я открою вам сейчас, в чем весь секрет: хоть сам я и не из числа умных, но я примкнул к этой партии, и вот уже 5588 лет{654}, как мы ведем войну с дураками. Дураки считают, что мы их обездолили, они утверждают, будто на свете имеется определенная доза разума и эту дозу умные — бог весть какими путями — забрали всю без остатка, и потому столь часты вопиющие примеры, когда один человек присваивает себе так много разума, что сограждане его и даже вся страна должны пребывать в темноте.
Вот где тайная причина войны, и войны поистине беспощадной.
Умные ведут себя, как им и полагается, спокойнее, сдержаннее и умнее, они отсиживаются в укреплениях своих древних Аристотелевых твердынь, у них много оружия и много боевых припасов, — ведь они сами выдумали порох: лишь время от времени они, метко прицелясь, бросают бомбы в стан врагов.
Но, к сожалению, последние слишком многочисленны, они оглушают своим криком и ежедневно творят мерзость, ибо воистину всякая глупость мерзка для умного. Их военные хитрости часто очень коварны.
Некоторые вожди их великой армии остерегаются обнародовать тайную причину войны. Они слышали, что один известный своей фальшивостью человек, доведший фальшь до предела и написавший даже фальшивые мемуары, а именно. Фуше{655}, когда-то сказал: «Les paroles sont faites pour cacher nos pensées»,[100] и вот они говорят много слов, дабы скрыть, что у них вовсе нет мыслей, и произносят длинные речи, и пишут толстые книги, и если послушать их, то они превозносят до небес, единственно благодатный источник мыслей — разум, и если посмотреть на них, то они заняты математикой, логикой, статистикой, усовершенствованием машин, гражданскими идеалами, кормом для скота и т. п., и как обезьяна тем смешнее, чем вернее подражает человеку, так и дураки тем смешнее, чем больше притворяются умными.
Другие предводители великой армии откровеннее — они сознаются, что на их долю выпало не много разума, что, пожалуй, им и вовсе не досталось его, но при этом никогда не преминут добавить: в разуме небольшая сладость, и вообще цена ему невелика. Быть может, оно и верно, но, к несчастью, им недостает разума даже для того, чтобы доказать это. Тогда они начинают прибегать к различным уловкам, открывают в себе новые силы, заявляют, что силы эти, как-то: душа, вера, вдохновение — не менее, а в иных случаях даже более могущественны, чем разум, и утешаются подобным суррогатом разума, подобным паточным разумом.
Меня, несчастного, они ненавидят особенно сильно, утверждая, что я искони принадлежал к ним, что я отщепенец, перебежчик, разорвавший священные узы, что теперь я стал еще шпионом и, разведывая исподтишка их, дураков, замыслы, потом передаю эти замыслы на осмеяние своим новым товарищам; к тому же, мол, я настолько глуп, что даже не понимаю, что эти последние заодно высмеивают и меня самого и ни в какой мере не считают своим. — В этом дураки совершенно правы.
Действительно, умные не считают меня своим, и скрытое хихиканье их часто относится ко мне. Я отлично знаю это, только не подаю вида. Сердце мое втайне обливается кровью, и, оставшись один, я плачу горькими слезами. Я отлично знаю, как неестественно мое положение: что бы я ни сделал, в глазах умных — глупость, в глазах дураков — мерзость. Они ненавидят меня, и я чувствую теперь истину слов: «Тяжел камень{656}, и песок тяжесть, но гнев дурака тяжелее обоих».
И ненависть их имеет основания. Это чистая правда, я разорвал священнейшие узы; по всем законам божеским и человеческим мне надлежало жить и умереть среди дураков. И как бы хорошо было мне с ними! Они и теперь еще, пожелай я возвратиться, приняли бы меня с распростертыми объятиями. Они по глазам моим старались бы прочесть, чем угодить мне. Они каждый день звали бы меня на обед, а по вечерам приглашали бы с собой в гости и в клубы, и я мог бы играть с ними в вист, курить, толковать о политике; если бы я при этом стал зевать, за моей спиной говорили бы: «Какая прекрасная душа! Сколько в нем истинной веры!» — Позвольте мне, madame, пролить слезу умиления, — ах! и пунш я бы пил с ними, пока на меня не снисходило бы настоящее вдохновение, и тогда они относили бы меня домой в портшезе, беспокоясь, как бы я не простудился, и один спешил бы подать мне домашние туфли, другой — шелковый шлафрок, третий — белый ночной колпак; а потом они сделали бы меня экстраординарным профессором или председателем человеколюбивого общества, или главным калькулятором, или руководителем римских раскопок: ведь я именно такой человек, которого можно приспособить к любому делу, ибо я очень хорошо умею отличать латинские склонения от спряжений и не так легко, как некоторые другие, приму сапог прусского почтальона за этрусскую вазу.