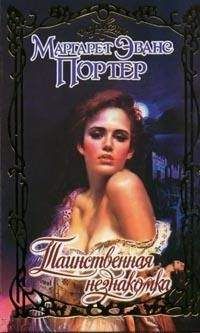Генрих Гейне - Стихотворения. Поэмы. Проза
См…
. . . . . . . . . . . . .
Нет, я и это место оставлю незаполненным, иначе меня самого приведут — только в суд, injuriarum.[85]
Ослы современные — большие ослы.
Бедные древние ослы, достигшие такой высокой культуры!
См. Gesneri: De antiqua honestate asinorum[86]{606}. (In comment. Götting…, т. II, стр. 32.)
Они перевернулись бы в гробу, если бы услышали, как говорят об их потомках. Когда-то «осел» было почетным званием, — оно означало примерно то же, что теперь «гофрат», «барон», «доктор философии»; Иаков сравнивает{607} с ослом сына своего Иссахара, Гомер{608} — своего героя Аякса; а теперь с ним сравнивают господина фон…! Madame, по поводу ослов такого рода я мог бы углубиться в самые недра истории литературы, я мог бы цитировать всех великих, людей, которые были влюблены, — например, Абелярдуса{609}, Пикуса Мирандулануса, Борбониуса, Куртезиуса, Ангелуса Полициануса, Раймондуса Луллиуса и Генрихуса Гейнеуса.
По поводу любви я мог бы, в свою очередь, цитировать всех великих людей, не употреблявших табака, например Цицерона, Юстиниана, Гете, Гуго, себя, — случайно все мы пятеро имеем отношение к юриспруденции. Мабильон{610} не выносил дыма даже из чужой трубки, в своем «Itinere germanico»[87] он жалуется, говоря о немецких постоялых дворах, «quod molestus ipsi fuerit tabaci grave olentis foetor».[88]
Другим же великим людям, напротив, приписывается большое пристрастие к табаку. Рафаэль Торус{611} сочинил гимн в честь табака, — madame, вы, быть может, не осведомлены еще о том, что Исаак Эльзевириус{612} издал его in quarto[89] в Лейдене anno 1628, а Людовикус Киншот{613} написал к нему вступление в стихах. Гревиус{614} даже воспел табак в сонете. И великий Боксхорниус{615} любил табак. Бейль{616} в своем «Dict. hist. et critiq.»[90] сообщает, что, по рассказам, великий Боксхорниус носил во время курения широкополую шляпу с дыркой спереди, куда он засовывал трубку, когда она мешала; ему в занятиях, — кстати, упомянув о великом Боксхорниусе, я мог бы тут же процитировать всех великих ученых, которые, из страха быть согнутыми в бараний рог, спасались бегством. Но я ограничусь ссылкой на Иог. Георга Мартинса{617}: «De fuga literatorum etc. etc. etc.».[91]
Перелистывая историю, мы видим, madame, что все великие люди хоть раз в жизни должны были спасаться бегством: Лот{618}, Тарквиний{619}, Моисей{620}, Юпитер, госпожа де Сталь{621}, Навуходоносор{622}, Беньовский{623}, Магомет, вся прусская армия{624}, Григорий VII{625}, рабби Ицик Абарбанель{626}, Руссо{627}, — я мог бы добавить еще множество имен из тех, например, что занесены биржей на черную доску.
Вы видите, madame, что я не страдаю недостатком основательности и глубины в познаниях, но с систематизацией дело пока что-то не ладится. В качестве истого немца я должен был бы начать эту книгу с объяснения ее заглавия, как то издавна ведется в Священной Римской империи. Фидий{628}, правда, не предпослал никакого вступления к своему Юпитеру, точно так же, как на Венере Медицейской нигде, — я осмотрел ее со всех сторон — не заметно ни одной цитаты; но древние греки были греками, наш же брат, честный немец, не может полностью отрешиться от немецкой природы, и посему я должен, хоть с опозданием, высказаться{629} по поводу заглавия моей книги.
Итак, madame, я говорю:
1. Об идеях.
А. Об идеях вообще.
а) Об идеях разумных.
б) Об идеях неразумных.
α) Об идеях обыкновенных.
β) Об идеях, переплетенных в зеленую кожу.
Последние, в свою очередь, подразделяются… но это выяснится из дальнейшего.
Прощание Наполеона с армией
в день отъезда в ссылку на остров Эльбу. 20 июля 1814 г.
Цветная гравюра по рисунку Ф. Рейнхольда
1814 г.
Глава XIVMadame, имеете ли вы вообще представление об идеях? Что такое идея? «В этом сюртуке есть удачные идеи», — сказал мой портной, с деловитым одобрением рассматривая редингот, оставшийся от времен моего берлинского щегольства и предназначенный стать скромным шлафроком. Прачка моя плачется, что пастор вбил в голову ее дочери идеи, и она стала от того придурковатой и не слушает никаких резонов. Кучер Паттенсен ворчит по всякому поводу: «Что за идея! Что за идея!» Но вчера он был порядком раздосадован, когда я спросил его, что такое, по его мнению, идея. С досадой он проворчал: «Ну, идея и есть идея! Идея — это всякая чушь, которая лезет в голову». Такой же смысл имеет это слово, когда гофрат Геерен{630} из Геттингена употребляет его в качестве заглавия книги.
Кучер Паттенсен — это человек, который в темноте и тумане найдет дорогу на обширной Люнебургской равнине; гофрат Геерен — это человек, который тоже мудрым инстинктом отыскивает древние караванные пути Востока и странствует по ним уже много лет невозмутимее и терпеливее, чем верблюды былых времен; на таких людей можно положиться! Примеру таких людей надо следовать без раздумья, и потому я озаглавил эту книгу «Идеи».
Название книги имеет посему столь же мало значения, как и звание автора; оно было выбрано последним отнюдь не из ученой спеси и ни в коем случае не должно быть истолковано как признак тщеславия с его стороны. Примите, madame, мое смиреннейшее уверение в том, что я не тщеславен. Это замечание совершенно необходимо, как вы увидите ниже.
Я не тщеславен, — и вырасти целый лес лавров на моей голове и пролейся море фимиама в мое юное сердце — я не стану тщеславным. Друзья мои и прочие соотечественники и современники добросовестно постарались об этом. Вы знаете, madame, что старые бабы обычно плюют в сторону своих питомцев, когда посторонние хвалят их красоту, дабы похвала не повредила милым малюткам. Вы знаете, madame, что в Риме, когда триумфатор, увенчанный славой и облаченный в пурпур, въезжал на золотой колеснице с белыми конями через Марсово поле{631} в город, как бог возвышаясь над торжественной процессией ликторов, музыкантов, танцоров, жрецов, рабов, слонов, трофееносцев, консулов, сенаторов и воинов, — то чернь распевала ему вслед насмешливые песенки. А вы знаете, madame, что в милой нашей Германии много водится старого бабья и черни.
Как было уже говорено, madame, идеи, о которых здесь идет речь, так же далеки от Идей Платона, как Афины от Геттингена, и на книгу вы не должны уповать больше, чем на самого автора. Как мог последний вообще возбудить какие-либо упования — одинаково непонятно и мне, и моим друзьям. Графиня Юлия взялась устранить это недоразумение; по ее словам, если названный автор и высказывает иногда нечто действительно остроумное и новое, то это — чистое притворство с его стороны, а в сущности, он так же глуп, как и все прочие.
Это неверно, я совсем не притворяюсь; у меня что на уме — то и на языке; я пишу в невинной простоте своей все, что придет мне в голову, и не моя вина, если из писаний моих иногда получается толк.
Но, видно, в сочинительстве я более удачлив, чем в Альтонской лотерее, — я предпочел бы обратное, — и вот из-под пера моего выходит немало выигрышей для сердца и кватерн{632} для ума, и все это по воле господа бога, ибо Он, отказывающий благочестивейшим певцам всевышнего и назидательнейшим поэтам в светлых мыслях и в литературной славе, дабы они из-за чрезмерных похвал своих земных собратий не забыли о небесах, где ангелами уже приготовлены им жилища, — Он тем щедрее наделяет прекрасными мыслями и мирской славой нашего брата, грешного, нечестивого, еретического писателя, для коего небеса все равно что заколочены; так поступает он в божественном милосердии и снисхождении своем, дабы бедная душа, раз уж она создана, не осталась ни при чем и хоть тут, на земле, испытала долю того блаженства, в коем ей отказано там, на небесах.
См. Гете{633} и сочинителей религиозных брошюрок.
Итак, вы видите, madame, что вам можно читать мои писания, кои свидетельствуют о милосердии и снисхождении божьем; я пишу, слепо веруя во всемогущество его, в этом отношении я должен считаться истинно христианским писателем, ведь, — скажу словами Губица{634}, — начиная данный период, я не знаю еще, чем закончу его и какой смысл вложу в него, я всецело полагаюсь в этом на господа бога. Как бы мог я писать, не будь у меня такого благочестивого упования? В комнате моей стоит сейчас рассыльный из типографии Лангхофа, дожидаясь рукописи; едва рожденное слово, теплым и влажным, попадет в печать, и то, что я мыслю и чувствую в настоящий миг, завтра к полудню может уже стать макулатурой. Легко вам, madame, напоминать мне Горациево{635} «nonum prematur in annum».[92] Правило это, как и многие другие такого же рода, быть может, и применимо в теории, но на практике оно никуда не годится. Когда Гораций преподал писателям знаменитое правило на девять лет оставлять свои сочинения в столе, ему следовало одновременно открыть им рецепт, как прожить девять лет без пищи. Гораций выдумывал это правило, по всей вероятности, сидя за обедом у Мецената{636} и кушая индейку с трюфелями, пудинг из фазана в перепелином соусе, котлетки из жаворонка с тельтовской морковкой, павлиньи языки, индийские птичьи гнезда и бог весть что еще! — и притом все бесплатно.